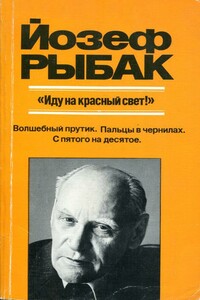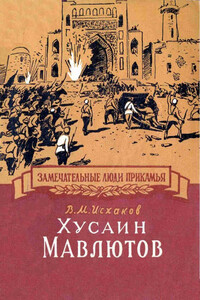«Скучаешь ли ты по дому, по прошлому?» – спрашивает себя Виктор Платонович.
И что же, уклониться от ответа, мужественно вздёрнув подбородок?
«Да, скучаю. И очень», – невесело отвечает Некрасов. И ему становится на время легче… А вообще-то говоря, кто в эмиграции не писал о грусти?
И Некрасов тоже написал.
Изящную «Маленькую печальную повесть». Написал за две недели. Выговорился наконец и чуток всплакнул о потерянных друзьях…
На мой взгляд, «Маленькая печальная повесть» является продолжением «Сапёрлипопета» – только в ней гораздо явственней прослушивается плач и горечь по друзьям… Очень уважаемая Некрасовым Анна Берзер, редактор «Нового мира», назвала эту повесть «кодексом чести». Нельзя бросать мать, писал Некрасов, продаваться власти и лгать самому себе. Негоже забывать и обманывать друзей. Нельзя терять честь и жалко губить свой талант.
Для меня «Маленькая печальная повесть» усеяна деталями, фактами, именами, названиями улиц и кафе, которые мне прекрасно известны, понятны, ловятся на лету. Эта повесть – изящный шедеврик, я вас уверяю! Правда, на мой невзыскательный вкус, она чуть перегружена сведениями о театре, кино, балете. Хотя чего удивляться – беседуют-то просвещённые люди…
И ещё. В «Маленькой печальной повести» Некрасов вдруг пустился во все тяжкие – решился на малонормативную лексику, чего раньше за ним не замечалось. А тут – полный набор. В числе прочих ещё киевское словечко – «поц!», которым он часто злоупотреблял в жизни, в значении «дурачок». Он почему-то считал, что это ругательство очень распространено в народе – по-еврейски это значит, простите, «фуй», – и удивлялся, как можно такое не знать? На самом деле это бранное слово понимали только в Киеве, да в бывшей черте оседлости, да ещё некоторые из московских знатоков еврейского быта.
Вика включил телефонный громкоговоритель, чтоб и я принял участие в разговоре. Его собеседник говорил тихо и вяловато. Угадав голос Сергея Довлатова, я, приложив руку к сердцу и тыча пальцем в телефон, попросил знаками: мол, привет от меня передайте, от его почитателя.
Вика радостно закричал в трубку, что вот сын пришёл, прочёл вчера твой «Чемодан», говорит, смеялся, очень ему понравилось!
– Мне такое он не говорит! – слишком уж бодро шутил В.П.
– Молодёжь нынче пошла непочтительная и, не побоюсь этого слова, развязная! – грустновато ответил на шутку Довлатов, обманутый, видимо, словом «сын» и посчитав, что к Вике забежал этакий пострелёнок.
Закончив разговор, Виктор Платонович сообщил уже безрадостно:
– Вчера, говорит Серёжа, закончился у него загульчик. Обещает, что сейчас закруглился окончательно.
Будучи год назад в Нью-Йорке, Вика зашёл к Довлатову домой, когда Сергей только что выскользнул из недельного запоя.
– Сидит на кровати, а вокруг пустых бутылок столько, что я охренел. Полсотни бутылок виски! Другого, говорит, не пьёт. И это за неделю! Даже я слегка испугался!
– Да какие ж это деньги нужны! – пожалел и я Довлатова.
– Что деньги! – вздохнул В.П. – Такими темпами он себя быстро угробит!
Потом в письме от 14 марта 1980 года Довлатов напишет:
«Спасибо Вам за письмо и одобрение. А Вашему сыну – тем более. Даже Тургенев заискивал перед молодыми людьми, чёрствыми и несентиментальными. А я – и подавно».
Через неделю пришёл черёд Некрасова вкусить запойные тяготы. Выпив с утра, писатель проспал весь день. Ночью звонить можно было только в Америку. В том числе и Серёже Довлатову.
«Спасибо, что позвонили, – написал потом Довлатов. – Алкогольный звонок – исключительно близкая мне когда-то форма общения. Сейчас я, увы, не пью. Но люблю саму идею по-прежнему».
Перезванивались они в то время интенсивно. А будучи трезвыми – так же активно переписывались. Переписка эта бурлила, причём Довлатов не гнушался писать внушительные письма с прекрасными деталями и штришками. Прислал тогда же свою книжку «Наши»: «Дорогому Виктору Платоновичу, основному Некрасову русской литературы».
Некрасов радовался такому общению. Ведь в Париже настоящих юмористов не было.
Возьмите Израиль – княжество изумительных остряков. Или Америку, где царил Довлатов, которого, кстати, Максимов первое время не принимал всерьёз, считал бесталанным зубоскалом. А у нас, в парижской эмиграции, у писателей в основном было всё как-то надрывно, сумрачно, мудаковато. Слишком многим хотелось, наверное, чтоб считали их серьёзными писателями…