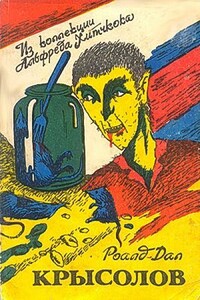Неужели все мы из одного корня, из одного детства, из одного прошлого, унесенного на тысячи лет назад?
Иду по приморскому городу, а кажется – шествую по миру.
Думаю об этом и начинаю серьезно подозревать, что будущее человечества в большей степени зависит от того, что произойдет в ближайшее время на этом квадратном километре.
Пусть простят меня пирамиды Египта, музеи Берлина, мраморные надгробия старой Праги, бульвары Парижа, парки Лондона, небоскребы Нью-Йорка – я любовался ими, но сердце мое билось спокойно, а если и учащалось его биение, то не настолько, чтобы пересыхало во рту и кружилась голова.
Отчего же всякий раз, стоит мне возвратиться в мой город, сердце раскачивается в груди так, что больно ребрам и голова кружится, будто я болен или пьян?
Неужели на моих глазах рождающийся город Ашкелон с четырехтысячелетней историей прекраснее красавицы Праги или Москвы, загадочнее Веймара или любимого мной Дубровника? Дубровник – удивительный город на берегу Адриатического моря, где дома и улицы напоминают ущелья и скалы, гранитные утесы с множеством уступов и площадок. Входы в дом похожи на входы в пещеры, вырубленные в скале. Весь город окружен стеной, как древний Ашкелон…
Дубровник, говорят, сильно разрушен в ходе братоубийственных войн в Югославии. Именно там мне вдруг показалось, что бойницы стерегут бойцы имама, как считал поэт Расул Гамзатов – неподкупные…
Позволю усомниться…
В Черновцах – городе моего детства, моей юности, моей зрелости я видел, как новая пьеса играется в старых декорациях. Люди, хлынувшие из окрестных сел в оставленные евреями дома, словно боялись всей этой готики, базилик, этого мавританского стиля, бог знает каким ветром занесенного на окраины Украины.
Я ходил по улицам детства и не встречался с самим собой, не встречался со своими веснами, дождями, цветами, опадающими осенними листьями. Мне казалось, попади я туда вновь, бесконечно буду бродить и бродить. И вдруг желание бродить притупилось…
Но вот уже в сотый раз под палящим солнцем я иду в древний город, останавливаюсь у самого обрыва, у развалин церкви, построенной во времена императора Константина. Давно остывшая, холодная зола. И я склоняю голову, тоже припорошенную холодной белой золой…
Здесь стояли грозные египетские фараоны. Безжалостные ассирийские цари. Вавилонский Навуходоносор, который не расставался с коротким ножом – он приносил ему удачу.
Мертвые мужчины и женщины видели то, что грезилось и мне – клинок, стрелу, вошедшую в тело, и тело – простертое под небом. Но оказывается, все мы видели завершение совсем другой, куда более давней истории: Каин убивал Авеля…
Новое в городе я вижу своими глазами. О старом слушаю и думаю, и думы мои – как разноцветные нитки, обвивающие большое веретено. Я мысленно представляю тот многоцветный ковер, который можно соткать из этих ниток.
Александр Македонский. Персидский царь Кир. Едва ли не самое древнее в мире (VI–V века до н. э.) кладбище собак, которых в персидский период хоронили в соответствии с религией Зороастра.
Копья, сабли, ножи. В стальных лезвиях спала и зрела человеческая злоба.
Вещи переживают людей. Миллионы осколков вытаскивают археологи из земли и складывают из них изящные амфоры, очаровательные кувшины, глиняные тарелки. И теперь – как новенькие! Кто знает, завершилась ли их история или только начинается?
Римские легионеры. Греческие монахи. Одержимые безумием потомки Ишмаэля. Крестоносцы с такими звучными именами – Ричард Львиное Сердце или прованский трубадур, князь Рю Блай, который на всех парусах мчался сюда, в Палестину, к своей возлюбленной…
В конце концов, каждый изведал вкус смерти, чтобы потом обратиться в воспоминание…
А мы все стоим и стоим.
Было время, когда на имя «Палестина» откликались только пустынные ущелья, Иудейские горы или пески Негева.
Еще в середине прошлого века в Иерусалиме существовал квартал прокаженных. В городе с населением в двадцать две тысячи человек не было ни одного врача!
В 1907 году в Палестину отправился будущий первый президент Израиля Хаим Вейцман: «Пустынная то была, в общем, страна – один из самых заброшенных уголков захолустной и убогой Оттоманской империи». Но самое грустное впечатление произвел на него Иерусалим: «Здесь действительность оправдывала самые худшие ожидания. Еврейский Иерусалим представлял собой жалкое еврейское гетто, всеми забытое и лишенное достоинства. Все его прославленные исторические святыни принадлежали другим… Весь мир был достойно представлен в Иерусалиме – кроме нас, евреев. Зрелище это ввергло меня в невыразимую тоску, и я покинул Иерусалим в тот же день, не дожидаясь вечера. Свою неприязнь к Иерусалиму я не мог изжить потом долгие годы…»