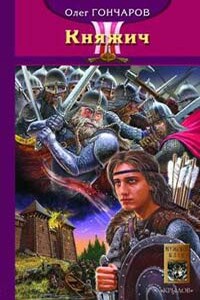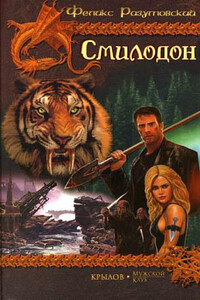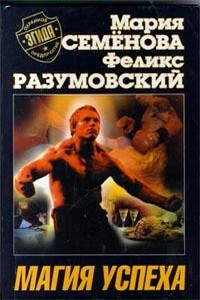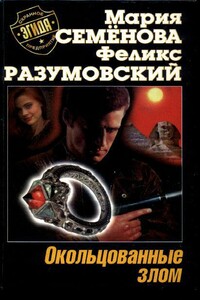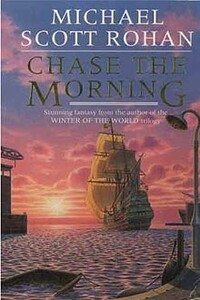— У, круто, — кивнул водитель, крепкий паренек в десантной майке. — Я сам тоже бегаю. Но чтобы вот такие кругаля… Вы кто, вольник? Боксер? А может… шотокан?
Последнее слово он произнес шепотом.
— Да так, — хмыкнул Буров, залез в кабину, с удовольствием устроился в неудобном кресле. — Сражаюсь с гиподинамией, болезнью века. А ты, я вижу, поклонник шотокана? Ну да, эффектный стиль, приятный глазу…
— Это еще смотря чей глаз. — Паренек нахмурился, врубил скорость и резко, так, что глушитель рявкнул, надавил на газ. — Мы вот полгода окна в зале простынями закрывали. В тренировочных, — он коротко вздохнул, посмотрел на Бурова, — костюмах занимались. Ну а потом вообще началось… Да вы, наверное, сами в курсе…
Еще бы не быть. Буров отлично помнил всю эту историю с каратэ. Социально вредным, криминально опасным, не вписывающимся никоим образом в принцип социалистического физвоспитания. За преподавание коего полагалась уголовная ответственность. Впрочем, наиболее известных мастеров посадили по другим статьям — кого за валюту, кого за спекуляцию, кого — это надо же такое придумать! — за попытку к изнасилованию.[255] Вот так, чтобы неповадно было. А то размахались тут без разрешения ногами, понапускали пыли народу в глаза, понаболтали кучу всякой вредной чепухи — дух, разум, воля, сильные личности. Ага, щас вам. Винтики государственной машины, унифицированные члены общества, ревностные строители коммунистического завтра. А кто с этим не согласен, живо останется без резьбы…
— Ничего страшного, раньше хуже было. В тридцатые годы, например, бокс был запрещен. — Буров посмотрел в окно, на колышущуюся водяную стену, глуховато кашлянул, вздохнул и неспешно продолжил мысль: — А сейчас что, сейчас лафа. Вошел на «челночке», двойку-тройку отработал, дистанцию разорвал, и ажур. Слава советской власти. Атаку увидел, с сайд-степом отвалил и через руку кроссом, с проносом, в бороду… Ура, партия наш рулевой. А если учесть еще, что на средней дистанции бокс все же эффективнее каратэ, то и вообще да здравствует гениальная политика ленинского Центрального Комитета!
Он крайне контрреволюционно мигнул, очень по-антисоветски оскалился и, быстро отвернувшись к окну, вышел из разговора — тупо, без мыслей стал смотреть, как торжествует стихия. Молчал, пока не переехали ручей — мутный, взбудораженный, похожий на реку, шевельнул плечами, собираясь встать, и тихо сказал:
— Спасибо, друг. Здесь останови.
Крепко пожал парню руку и вылез из кабины, отдавшись во власть водяных плетей. Хотя нет, Бога гневить было нечего — ливень потихоньку слабел, гром гремел тоном ниже, гроза уходила в сторону. Стихия выдыхалась.
«Ну вот и славно». Буров глянул вверх, на начинающее светлеть небо, потом по сторонам, на мокрый социализм своей молодости, и неожиданно расчувствовался, запел необыкновенно фальшиво:
— Эх, давно мы дома не были…
Однако двинул первым делом не нах хауз — в магазин, где купил иглу и пару спиц. И только уж потом направился к огромному, изогнутому подковой многоквартирному монстру. Родное ведомство строило. Трансформаторная будка во дворе, стонущая жалобно дверь подъезда, вечно не работающий, в граффити, лифт. Впрочем, до него Бурову никогда дела не было — и ноги крепкие, и этаж второй. Вот она, знакомая дверь, обитая черным дермантином. Белая пуговка звонка на синем косяке, круглая хромированная ручка, два замка — ригельный и французский. Не ахти какие, без претензий — Буров при посредстве спицы и иглы быстренько поладил с ними, плавно открыл дверь и бесшумно вошел. Дома, как он и предполагал, никого не было — Витька со своим детским садиком дышал воздухом на Сиверской, супруга же, видимо, еще вкалывала у себя в районном стационаре.
Стояла тишина, лишь мерно капало из крана в ванной, урчал негромко компрессор «Бирюсы» да пел душой по радио известный телеверхолаз:
…Но сожалений горьких нет.
А мы монтажники-высотники
И с высоты вам шлем привет.
«Да, не кочегары мы, не плотники», — согласился Буров, разделся до трусов и, обтерев об тряпку ноги, пошел осматриваться. Свиит хоум как-никак, милый дом. Пусть даже и в прошлом.