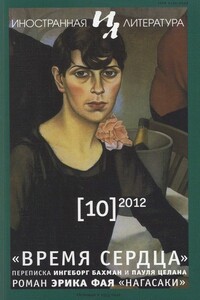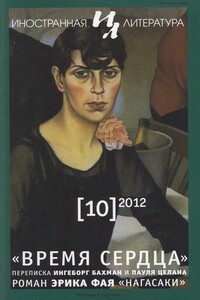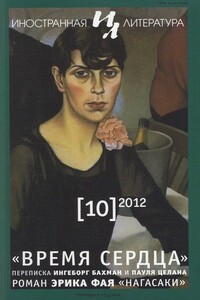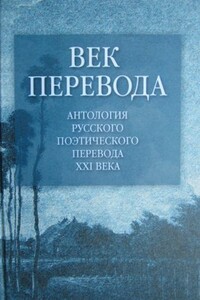«Время сердца». Переписка Ингеборг Бахман и Пауля Целана - страница 24
У моей мамы тоже есть только такая могила.
Макс Фриш подозревает меня в тщеславии и честолюбии; на мои написанные в беде фразы — да, там была всего одна фраза: но я (по глупости) верил, что за ней угадывается много других! — он отвечает различными aperçus[111] и предположениями касательно всяких проблем, возникающих у «писателя», — например, «нашего отношения к литературной критике вообще». Нет, я должен, хотя и думаю, что Макс Фриш сохранил копию своего письма — сам я тоже сейчас пишу под копирку… — процитировать еще одну его фразу: «Ибо если в Вашем гневе содержится хотя бы искорка этих чувств (имеются в виду „тщеславие и болезненное честолюбие“), то взывать к памяти о лагерях смерти, как мне кажется, непозволительно и чудовищно». Это пишет Макс Фриш.
Ты же, Ингеборг, пытаешься утешить меня моей «славой».
Как ни тяжело мне, Ингеборг, — а такое дается тяжело, — я прошу тебя больше мне не писать, не звонить и не посылать никаких книг; ни сейчас, ни в ближайшие месяцы — еще долго. Ту же просьбу я направляю через тебя Максу Фришу. И, пожалуйста, не ставьте меня в положение, когда я вынужден буду посылать ваши письма обратно!
Я, хотя перед глазами у меня стоит многое, не хочу продолжать это письмо.
Я должен думать о маме[112].
Я должен думать о Жизели и нашем ребенке.
Я искренне желаю тебе, Ингеборг, всего доброго! Пусть у тебя все будет хорошо!
Пауль.
146. Пауль Целан — Ингеборг Бахман
<Париж> 17. XI.59
Я беспокоюсь о тебе, Ингеборг.
Но ты должна понять: мой крик о помощи — ты его не слышишь, ты не в себе (где я надеюсь тебя застать), ты… в литературе.
А тут еще Макс Фриш, воспринимающий этот «случай» — на самом деле крик! — как нечто интересное в литературном плане…
Так что напиши, пожалуйста, или пошли мне — телеграммой — телефонный номер своей квартиры на Кирхгассе[113].
(Пожалуйста, не звони: у нас гость, Рольф Шрёрс…)
Пауль.
147. Ингеборг Бахман — Паулю Целану
Цюрих, 18.11.1959
Среда, полдень,
только что экспресс-почтой пришло твое письмо, Пауль, слава богу. Я снова могу дышать. Вчера я в отчаянии попыталась написать Жизели, недописанное письмо лежит передо мной, не хочу приводить ее в смятение, но передаю ей через тебя мою искреннюю просьбу отнестись ко мне по-сестрински, с чувством и пониманием, которое может донести до тебя мою беду, весь конфликт — и всю мою несвободу в том письме, плохом, я это знаю, лишенном жизни.
Последние дни здесь, с тех пор как получила твое письмо, — все было ужасно, во взвешенном состоянии, на краю разрыва, друг другу нанесено столько ран. Но я не могу и не имею права говорить о том, что происходит здесь[114].
А вот о нас с тобой я говорить должна. Нельзя такому случиться, чтобы ты и я еще раз потеряли друг друга, — меня это уничтожит. Ты говоришь, что я не в себе, а… в литературе! Нет, прошу тебя, это не так, куда завели тебя твои мысли? Я там, где я была всегда, только вся потерянная, готовая рухнуть под давящим грузом, как тяжело нести на себе даже одного человека, впадающего в одиночество под воздействием болезни и саморазрушения. Я знаю, мне надо быть еще сильнее, и я смогу.
Я услышу тебя, но и ты помоги мне — услышь меня. Шлю тебе телеграмму с номером телефона и молюсь о том, чтобы мы нашли нужные слова.
Ингеборг.
151. Ингеборг Бахман — Паулю Целану
Цюрих, 21.12.1959
Понедельник
20–12-1959
Дорогой Пауль!
Я долго не решалась написать и лишь поздравила тебя с днем рождения. Надеюсь, я что-нибудь придумаю или что-нибудь поможет мне найти слова, которые помогли бы нам всем, ведь дело касается не только тебя и меня, и я надеюсь также, что Клаус обрисует тебе всю трудность здешней ситуации лучше, чем это получилось бы у меня в письме. Вчера вечером мы примерно на час увиделись с Клаусом, поговорить удалось немного, под шум громкоговорителей в кафе между двумя поездами[115], и лишь после этого все снова обрушилось на меня: вопросы, вопросы, и у меня такое чувство, будто я теперь знаю обо всем не больше, чем прежде, несмотря на то что милый Клаус очень старался все рассказать. Пауль, по этой причине мне придется сказать о некоторых вещах очень прямо, чтобы не осталось недомолвок и никакой неопределенности. Тот совет, который я не могла дать во время нашего телефонного разговора, — ты помнишь? Сначала вот что: все началось с того, что ты посчитал письмо Макса недостойным ответа и что оскорбление, связанное с твоим, содержащимся в письме ко мне, обидным отказом от письменного общения с ним, остается для него в силе и теперь, когда ты и я нашли друг для друга слова примирения. Макса же это не коснулось, ведь именно его письмо было главной причиной случившегося; больше того, это наводит его на еще худшие мысли, и по отношению ко мне тоже, поскольку ситуация выглядит так, будто мне есть дело только до тебя, до твоей беды, до наших с тобой отношений. Тогда, после твоего первого письма и раздора, которое оно вызвало между Максом и мной, так что я опасалась буквально за все, я смогла добиться только одного — чтобы мы с ним об этом молчали (и стало еще хуже: тягостное молчание между мною и Максом). А недавно Хильдесхаймер