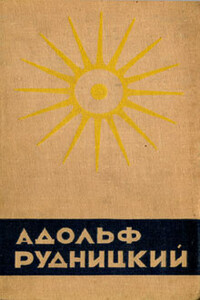С возрастом, как тому и следует быть, зрел и трезвел умом и сердцем и, получая в училище нечастые Ивановы письма или прочитывая о нем в письмах матери, случалось, переживал укоры совести, если не по-настоящему стыдился порока нелюбви к брату. Однако по возвращении в Юргород, куда он перевелся из-за обострения болезни матери, от него требовалось немалое напряжение, чтобы при встречах с Иваном не отводить глаза. Да и встречался он с ним не столько по велению сердца, сколько «по протоколу» — уж больно занимало его собственное появление в городе. Уехал мальчишкой, вернулся взрослым человеком, но совсем по-мальчишечьи выискивал, кого бы обрадовать своим появлением. Самая благодарная публика в таких случаях — родственники, а их-то, не считая Ивана да матери, не было — ни близких, ни дальних. Даже школьные приятели не попадались на глаза: одни разъехались, другие затерялись в окраинных скопищах новых жилых районов.
Нерецкой дважды посетил «избушку на курьих ножках», как Иван называл свою дачу в Никольском, купленную у жениной родни. Ему было немногим за сорок в ту пору. Тонкий, легкий, как юноша, он походил на мать. И поседел так же рано. Но седина не старила его, а придавала светлым волосам и всей слегка откинутой назад голове нарядный блеск. Он унаследовал от матери не только телесное изящество, черты и краски лица, но и профессию: как ее мать и дед по матери, она была историком.
Оба раза Нерецкой наведывался в Никольское зимой. Иван усаживал его у раскрытой топки печи, садился рядом, тянул к огню тонкие, мелко дрожащие руки и говорил, что визиты родственников, за их малочисленностью, вполне оправданный повод не работать.
«Пишущая братия злостно отвлекается! — говорил он. — Усевшись за стол, всякий писака ищет не мыслей, а повода не искать их. Всхрапнет жена за стеной, и он до утра кричит, что ему не дают работать!»
В первый приезд Нерецкому показалось, что он и в самом деле вынудил Ивана отложить все те бумаги и книги, что ворохом громоздились на большом, по-крестьянски сколоченном столе. Но после второго гостевания, возвращаясь в город вместе с Ирой (она в первый же день знакомства открыто домогалась доверительности, заискивала перед ним), Нерецкой узнал, что Иван давно уже работает кое-как, потому что пьет.
«Днем не приложится, ночью не уснет!.. — пренебрежительно произнесла она, из чего само собой вытекало, что Иван предан ею. — Думаете, он суетится, потому что обрадовался вашему приезду?.. Зубы себе заговаривает».
Вот, значит, откуда его приветливость, его бесконечные рассуждения о работе! Иван хватался за всякого визитера, как утопающий за соломинку, чтобы хоть как-то занять себя и тем, если не подавить, то хотя бы отвлечь тягу к спиртному. Заподозрив в себе алкоголика, он предпринимал судорожные усилия превозмочь недуг, страшился его, как подступающего безумия. Но ко времени встречи в электричке уже смирился, знал, что конченый человек и что это ни для кого не секрет.
«Все болею… — страдальчески улыбнулся он, поднимаясь, чтобы выйти в Никольском. — В Крым тянет, по родным местам побродить… У тебя машина, свозил бы, а?..» — И отвернулся, коряво, будто не рукой, а неудобным протезом поводя от уголка глаза к виску.
Нерецкой похлопал его по плечу, ободряюще сказал что-то, из чего следовало, что это все, что он может предложить, и дальше ехал один. Ехал и смотрел в окно — на молодо яснеющее небо ранней осени, на яркую, опаленную утренниками листву бесчисленных рощиц. Их свежо светившаяся в чистом прохладном воздухе густая желтизна не печалила, а рождала ощущение безусловного, чувственного, почти осязаемого единения с миром. Уверенность в принадлежности к этому чистому, неизменно прекрасному миру без труда вытеснила из памяти грязного, никудышного человека, брата.
Встреча была последней. Иван редко показывался в городе, жил на даче. Оттуда его увозили в лечебницы, туда он возвращался из них, там написал свою последнюю книгу — о Прокопии Ляпунове. Когда она попалась на глаза, Нерецкой купил, несколько месяцев таскал вместе с навигационными картами в служебном портфеле, но так и не одолел, как, впрочем, и «Страсти по России», первое его сочинение, повествующее все о том же Смутном времени. Матери тоже не нравились его писания.