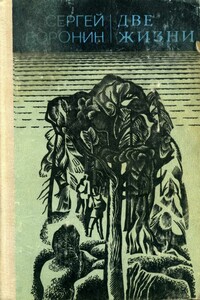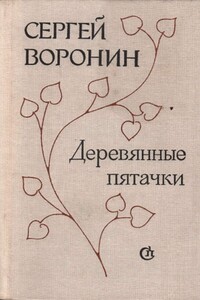Что хорошо всегда у нас было, так это атмосфера доброжелательности. Ни обид, ни злой памяти, если кто и нападал. Все по-товарищески, и ни у кого не возникало подозрения, что тот или другой «врезает» из чувства зависти или по какой другой дурной причине, даже если критик был и не прав.
Всегда с большим интересом проходили обсуждения рассказов Сергея Антонова. Читал он хорошо, умело, чуть пренебрежительно, безо всякой декламации и достигал нужного эффекта. Лирик по своему дарованию, он почему-то упорно нажимал на юмористическую сторону своих рассказов и был доволен, когда аудитория смеялась. Он очень хорошо вошел в литературу. Написал несколько повестей, рассказов, стал лауреатом Государственной премии, но увлекся сценариями для кино, — причем тут большого успеха не добился и как-то замолчал. Да и поздние его вещи были далеки от тех первых рассказов, особенно от «Весны» и других, отличавшихся удивительной свежестью.
Читал главы из своей болыной книги «Океанский патруль» Валентин Пикуль. Совсем юный, лет девятнадцати, он потряс всех нас своей насыщенной прозой, и удивительно было видеть этого мальчугана, ворочавшего громадным событийным материалом Великой Отечественной войны и решавшего его уже тогда в историческом плане. Со временем Валентин Пикуль вырос в крупного советского романиста, создавшего целую книжную полку хороших романов, и среди них — двухтомный роман «Слово и дело». Я видел, как в Доме книги стояла длинная очередь в ожидании этого романа. В ней было человек полтораста, не меньше. И, естественно, она увеличилась, как только роман поступил в продажу, появился на прилавке.
Я прочитал этот замечательный роман, не удержался, послал свою книгу «Родительский дом» Валентину в Ригу. И получил ответную от него: «Моозунд».
«Сереже Воронину — от автора. Поверь, мне было очень приятно, что в необъятном книжном океане состоялось наше неожиданное и трогательное рандеву.
Видел ты меня (как и я тебя) в молодости, — теперь встретились портретами в своих книгах. Тоже приятно! Будешь в Риге — заходи. Твой Валя Пикуль».
Был еще в нашем объединении тихий мальчик Юра Помозов. Он писал короткие рассказы. И вдруг однажды в «Звезде» появился цикл его рассказов. А потом вышла первая книжка. И Юрий Помозов вступил в литературу. Что всегда привлекало в его творчестве, так это упорная работа над словом. И это, пожалуй, во многом определило ого место в литературе.
С интересным рассказом «Последние «языки» выступил в журнале «Ленинград» Павел Петунин. Суть рассказа в том, как два разведчика тащат на себе «языка» — здорового, толстого немца. Они изнемогают от его тяжести, он к тому же еще издевается над ними, зная, что они его обязаны представить. И они наконец-то приводят его к себе. Но тут выясняется, что война уже кончилась. Это была отличная заявка на творческое будущее Петунина. Но, к сожалению, не оправдалась. Все, что он написал после, было на том самом уровне, который принято называть «средним».
Детям и взрослым подарил несколько книг Леонид Семин, человек трудной житейской судьбы. Он был политруком роты, попал в фашистский плен, прошел с десяток лагерей смерти, видел гибель генерала Карбышева. О многом пережитом он рассказал в своем романе «Один на один».
Читали мы свои рассказы, повести, обсуждали их. Читали я главы из своей повести «На своей земле». Кроме всего полезного, о чем говорили выступавшие, было еще одно — после обсуждения как-то укреплялась вера в то, что делаешь, как бы была проверка — тем ли путем идешь. И, конечно, всегда последнее слово оставалось за Всеволодом Александровичем. Он не скупился на похвалу там, где находил нужным, но, хотя и в мягких Формах, всегда высказывал и свои отрицательные суждения.
Долго не давался мне конец повести, но был найден. Я ее всю перепечатал, — перепечатка для меня — это еще одна дополнительная переписка, с правкой и добавлениями по ходу работы, — и понес в «Звезду».
Спустя какое-то время пришел за ответом. Был я в том самом полушубке с рыжей шерстью, который остался от войны, в кирзовых сапотах.

![Поиск истины [Авторский сборник]](/uploads/books/images/7b/7b4d33f8d1fe4558c853b42d8e8d332e0c362dba.jpg)