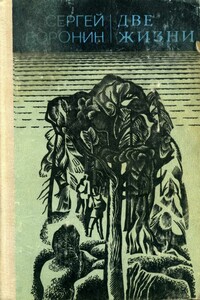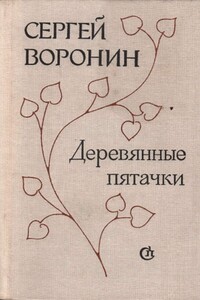К нашей радости, директором издательства стал С. Я. Сазонов, главным редактором Андрей Хржановский, под стать Сергею Яковлевичу, такой же образованный, творческий, любящий литературу. Жаль, что «наше» издательство просуществовало недолго. Вскоре оно было закрыто. Но все же успело выпустить несколько десятков книг, хорошо зарекомендовать себя и, что было главным для нас — выпустило книги молодых. Вышел «Океанский патруль» В. Пикуля, «Тамара Шкурко» — очерк Сергея Антонова о героине Социалистического Труда, вышла моя повесть «Широкой дорогой». Ее дважды издали в Польше, хотя я и никак не причисляю ее к удачным книгам. Вышел первый ежегодный сборник «Молодой Ленинград», открывший теперь уже немало молодых поэтов и прозаиков. Первый сборник был поэтическим. Его заметили, и вскоре из Москвы нам, молодым, последовало приглашение от Союза писателей и из ЦК ВЛКСМ.
Встретили нас тепло и приветливо. Хорошо говорили Н. С. Тихонов, С. Городецкий. Выступали наши ребята. Нас слушала литературная московская молодежь. В общем, это был для нас праздник. Вечером мы были приглашены к Н. С. Тихонову. Как истый ленинградец, он по-землячески распахнул двери своего дома. И там продолжалось чтение стихов. И наступает минута, когда Николай Семенович бросается к Ивану Демьянову и целует его за только что прозвучавшие строки:
На груди земли армянской
Синий орден красоты! —
это из стихотворения «Севан». Демьянов счастлив, смущен, смеется, и всем нам очень хорошо.
В ЦК ВЛКСМ нам сообщили о том, что В. А. Рождественский будет награжден грамотой за воспитание литературной молодежи. И мы вернулись домой ободренные, полные веры в себя и в свои силы.
* * *
Любовь к природе рождает прежде всего общение с нею. Казалось бы, я достаточно насмотрелся на восходы и закаты, мок под дождем и мерз на морозе и на Дальнем Востоке, и на Урале, и на Кавказе. Но там главным для меня было не общение с природой, а работа, работа не литератора, а геодезиста.
Пожалуй, с того времени, когда я стал целиком принадлежать в работе самому себе, и появилось у меня чувство природы. Я полюбил большую воду. Мне нравилось уходить по ней за несколько километров от берега, как бы открывать новое, по крайней мере, для себя. Нравились прибрежные дикие камни, стоявшие в воде, с зелеными водорослями на макушке. Было в них что-то романтическое, влекущее. Они никому не были нужны, эти камни, только мешавшие приставать лодке к берегу. Но я любил их. Как любил и густые тростники. И сильный ветер, метавший пламя костра, как цыганка свою красную юбку во время пляски. Все было интересно. И все это пошло в рассказы. Не сразу, но уже неотступно, как бы открывая для меня новую тему.
С природой у меня связано много рассказов. Причем я стремлюсь к тому, чтобы она была не фоном и даже не действующим лицом, — хотя и таких рассказов немало, — а как бы собеседником в раздумьях. Она предмет для размышлений о человеке, о его месте в жизни. Зачем он? Для чего?
Да, по-настоящему я познал и полюбил природу только уже после того, когда смог не то что часами, а целыми днями быть наедине с нею, и не созерцать ее, а чувствовать каждой своей клеткой и наблюдать за всеми сменами дня и ночи. И тут для меня открылось многое в книгах других писателей, чего я раньше не замечал или недооценивал. Увидел природу в их творчестве. И понял, что русскому писателю без нее не обойтись. Она в его произведениях так же органична, как и сам народ, как сама родина. Особенно же меня покорил Иван Бунин. И глубочайшим чувством природы, и языком своих произведений.
В «Литературном наследстве» издательства «Наука» — «Иван Бунин» — есть небольшой раздел «Из отзывов советских писателей о Бунине». Там анкета из пяти вопросов. Я приведу их. И тут же свои ответы.
1. Когда вы впервые познакомились с творчеством Бунина?
Впервые я совершенно случайно купил у букиниста, году в 1936, перевязанную кипу книг — приложения к «Ниве». Купил за бесценок. Это был Бунин. Я его сам переплел и никогда уже не расставался.
2. Какие прозаические произведения писателя вы считаете наиболее значительными?

![Поиск истины [Авторский сборник]](/uploads/books/images/7b/7b4d33f8d1fe4558c853b42d8e8d332e0c362dba.jpg)