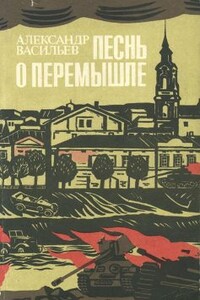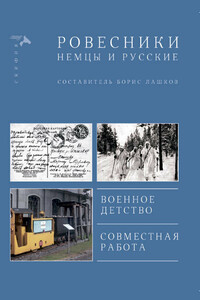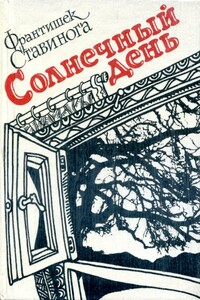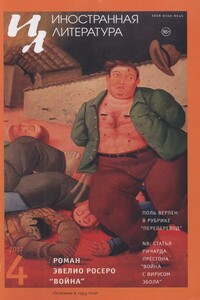К вечеру еще какая-то группа немцев подошла к заставе. Раздались выстрелы, собачий визг, затем снова смолкло. После уже, на другой день, мы узнали, что немцы тогда всех наших собак уничтожили. А затем они отправились еврейские дома грабить. Может быть, это нас и спасло… Ночь прошла тихо. А наутро опять началась стрельба. Но тут немцам было уже не до нас. И вдруг мы слышим, кто-то барабанит в дверь: «Открывайте, свои!» А мы сидим, молчим, помним наказ. Мало ли кого немцы могли подослать, может быть, предателя какого-нибудь. «Да открывайте же, не бойтесь! — кричит мужчина. — Это я, Саша Патарыкин!» Я прислушалась: он или не он? Со страху сразу не поняла. А все женщины на меня смотрят. Он снова: «Да я же это, я!» — и вроде чуть не плачет. Тогда я вскочила — и к двери. Бросились мы друг другу в объятия, а у него и правда слезы текут. Спрашивает: «Почему же вы молчали?» А я ему и отвечаю: «Голос у тебя какой-то не твой, хриплый». Потом еще раз посмотрела на него и поняла. Лицо у него все в копоти, на фуражке клочья торчат, щеки ввалились. «Дай, — говорю, — я тебе хоть фуражку зашью». Но он мотнул головой, некогда, мол, после, вытер слезы, схватил свой автомат и снова исчез…
— Не исчез, а опять пошел посты проверять, — поправляет Патарыкин и, вспомнив свой прежний, довоенный обход, добавляет: — Вид у меня, конечно, был не такой, как раньше, сапоги не блестели, но граница оказалась в порядке. К пяти часам дня мы ее полностью восстановили. Да что там «восстановили»! Если бы нам сказали тогда: «Форсируйте реку и выгоните фашистов из их Засанья», — мы, не задумываясь, сделали бы это. Такая была у всех нас злость и задор…
Вот теперь я хотя бы немного представляю себе тот штурм, о котором вскоре, на пятый день войны, узнала вся наша страна, весь мир. Значит, впереди шли пограничники! Но почему же в таком случае их даже не наградили? Я помню, что в Указе говорилось только о бойцах и командирах девяносто девятой…
— Такая уж наша участь! — улыбается Александр Николаевич. — Пограничник получает пулю первым, а славу последним. Да ведь не в этом дело. Слава не земля, здесь пограничных столбов не поставишь. Теперь, наоборот, в основном только о нашей заслуге пишут. — Александр Николаевич встает, уходит в другую комнату и возвращается с книгой в зеленой обложке. — Вот, посмотрите на досуге, в этом сборнике есть очерк писателя Беляева о штурме Перемышля, первый и, по-моему, единственный после войны. Хороший очерк. Но о подвиге девяносто девятой здесь почти не сказано.
Забегая вперед, скажу, что этот разговор происходил за год с лишним до того, как о «первом контрударе» снова, уже подробно, рассказала газета «Правда». Так или иначе, а история делает свое, воздавая каждому по заслугам. Но тогда я невольно насторожился: опять над этой дивизией, показалось мне, витает какая-то тайна. Однако бывший начальник заставы не мог мне помочь. У меня к истории были свои вопросы, у него свои…
— После штурма, — сказал он, — мы стали наводить порядок в городе: проверяли подозрительные дома, выискивали оставшихся лазутчиков. Я шел по знакомым улицам и не узнавал их. Перемышль, этот еще недавно чистенький, всегда словно вымытый город, страшно преобразился. Дымились развалины домов. На каждом шагу валялись трупы, оружие, бутылки с вином… Какой-то апофеоз войны! Все рестораны были разграблены. Помню, я зашел в один из них — вот в этот, на углу Рыночной площади, — и увидел лежащего у порога немецкого унтера с пистолетом в одной руке и с бутылкой коньяку в другой. Постоял тогда над ним и еще подумал: зачем этот красивый, здоровый парень пришел сюда, на чужую землю, что ему здесь было нужно? Убивать и пьянствовать?
Наступает пауза. Мы молчим. Я думаю о судьбе поколения, обманутого фальшивыми лозунгами, отравленного демагогией и ненавистью к инакомыслящим. Проклятый фашизм растлил души миллионов юношей и девушек, заплативших страшной ценой за ложные идеалы. Неужели это может повториться — и кровавый фюрер, и безумно ревущая толпа восторженных обывателей, и кровь, реки невинной человеческой крови?..