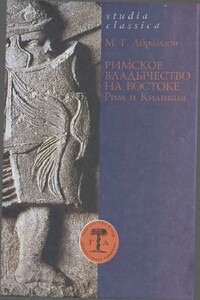Войны Рима в Испании, 154–133 гг. до н.э. - страница 28
Промульгация, очевидно, последовала вскоре на многочисленных сходках (contiones)[123], на которых она обосновывалась всеми возможными способами — как аргументами по существу, так и личными выпадами. Прежде всего, это было противостояние Гальбы и Либона, каждый из которых, по-видимому, неоднократно брал слово (Liv., per. 49: две речи Гальбы против Либона). Имели место и речи, и публичные препирательства, причем Гальба обвинял Либона в нарушении супружеской верности (Cic. De orat., II, 263). Тогда на сцене появились новые люди. Луций Корнелий Цетег рассказал о событиях в Испании (Liv., per. 49). В ответ Гальба выдвинул собственную версию произошедшего там. В этой речи Гальба признал, что приказал своим воинам перебить лузитан, находившихся поблизости. Однако это произошло потому, что лузитаны притворяясь будто желают мира, на деле собирались совершить нападение на его войско. Он догадался об их агрессивных намерениях, видя, что враги, согласно принятому у них обычаю, принесли в жертву лошадь и человека (Liv., per. 49; Gell., I, 12, 17, речь Катона; с ней перекликаются слова Аппиана: «Вероломство покарав вероломством»)[124]. Можно не сомневаться, что в этой связи Гальба припомнил нарушение лузитанами договора с Атилием, чтобы обосновать свой тезис. Поэтому у своих слушателей в Риме он поначалу явно снискал доверие. Впечатление, которое оставила эта речь Гальбы, а также, видимо, и другого оратора, который, кажется, выступил в тот момент в его поддержку (Катон у Авла Геллия (I, 12, 17), говорит о враждебной группировке — dicunt; Нобилиор, однако, произносил речь позднее — Liv., per. 49), — очевидно сделало необходимым выступление 85-летнего Катона (Cic. Brut., 80). Ему пришлось использовать всю свою gravitas, коль скоро он начал речь словами: «Многое мешало мне прийти сюда — мои возраст, голос, силы, старость, но поистине, когда я думал, что должно обсуждаться такое важное дело…» etc. (Gell., XIII, 12, 15 = ORF>2, 196. — Пер. Н. Н. Трухиной). Критиковал ли Катон утверждение Гальбы о планах лузитан — вопрос спорный, во всяком случае, он обсуждал вопрос о том, оправданно ли было принятие таких мер (Gell., I, 12, 17 = ORF>2, 197). В качестве примера он объяснил разницу между желанием и действием и таким образом расставил те же акценты, что и в речи в защиту родосцев в 167 г. (ORF>2, особ. 166, 168; собрано также у М. Гельцера>{149}). Свои аргументы в пользу войны против Карфагена, излагавшиеся в это же самое время, он строил на примате интересов государства. Доводы же государственно-политического порядка, приводившиеся Гальбой, он, вероятно, разоблачал как предлог для оправдания собственной страсти к наживе. Эта страсть и без того являлась главным пунктом в обвинительной аргументации Катона.
На речь Катона Гальба отвечал дополнительно. Потом говорил, очевидно, Квинт Фульвий Нобилиор. В своем ответе он, по-видимому, сосредоточился, прежде всего, на личных моментах. Нобилиор стремился представить дело так, будто главной причиной усилий обвинителей является старая вражда (inimicitia) (в качестве примера напрашивается следующий пассаж Ливия: «Кв. Фульвий, которого Катон не раз задевал в сенате, выступил в защиту Гальбы» (Q. Fulvius ei, saepe ab eo in senatu laceratus, respondit pro Galba; ср.: Cic. Div. in Q. Caec, 66). Однако выступление Катона резко изменило настроение народа не в пользу Гальбы. Последний понимал, что обычными ораторскими приемами он теперь уже не сможет добиться успеха, что римляне убеждены в его виновности (Liv., per. 49: «когда увидел, что ему грозит осуждение» — cum se damnari videret; Val. Max., VIII, 1 abs. 2: «поскольку он не мог быть оправдан» — quoniam innocentiae tribui nequierat absolutio). Тогда он первым из римлян прибег к средству, которое, хотя и навлекло на него упреки таких людей, как Катон (Fronto. Ер. ad M. Caes., III, 230, p. 57 N.) и Рутилий Руф (Cic. De orat., I, 227—228), но зато значительно облегчило его положение: он впервые в Риме воззвал к состраданию (miseratio) (образцом этого, кончено, была афинская судебная практика, см.: Aristoph. Vesp., 568—573; Plut., 382—385). Сцену, которую он устроил в день голосования, он начал с признания вины (Val. Max., VIII, 1 abs. 2: «обвиняемый уже не оправдывался (reus pro se iam nihil recusans)», у Цицерона (Brut., 90) справедливо добавлено nihil; это признание вины нельзя смешивать с описываемым у Ливия (per. 49) первоначальным признанием). После этого он вывел обоих своих несовершеннолетних сыновей (Cic. Brut., 90; De orat., I, 228; Liv., per. 49; Ep. Oxyrh. 49, Z. 100; Quintil. Inst, orat., II, 15, 8; Val. Max., VIII, 1, abs. 2) и находившегося еще в нежном возрасте Квинта, сына его недавно скончавшегося родственника Гая Сульпиция Гала, опекуном которого он был (Cic. Brut., 90; De orat., I, 228). На случай своего осуждения Гальба поручал детей заботе и опеке римского народа. Он делал вид, будто должен тут же составить завещание, поскольку в случае его гибели разрушится счастье не только его детей, но и сына Гая Сульпиция Гала. Гальба растрогал народ до слез и добился отклонения рогации Либона (некоторые из наших источников воспринимают это как оправдание: Val. Max., VIII, 1, abs. 2; Fronto. Ep. ad M. Caes., III, 230, p. 57 N). Однако исход голосования показал, что игра Гальбы на жалости сограждан не на всех произвела впечатление. Валерий Максим писал, что «почти никто не подал голоса против него (раепе nullum triste suffragium habuit)» (Val. Max., VIII, 1, abs. 2). В связи с этим над ним тяготело тяжкое обвинение в том, что он так легко отделался благодаря своему богатству (Арр. Iber., 60, 255). Таким образом, подкуп не оказался в центре внимания. Как богатейший человек в Риме, Гальба мог использовать для достижения своей цели самые различные средства, и это его современникам было нелегко понять. Во всяком случае, Катон считал miseratio главной причиной «оправдания»