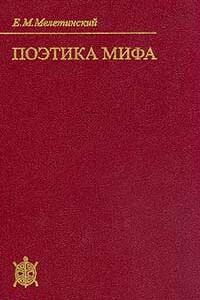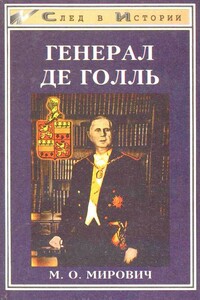У меня в памяти осталось яркое пятно: когда огонь противника стал понемногу затихать, в одной полусгоревшей хате толпа окружила небритого черного солдата — азербайджанца с завязанной рукой — самострельщика. Из толпы ему говорили: “Что же ты наделал, разве можно самострельничать? Теперь тебя, наверное, расстреляют”. Солдат в ответ на эти слова заплакал крупными слезами, вынул из кармана большую пачку денег и стал рвать одну бумажную десятку за другой. Народу стало жалко уничтожаемых денег: “Не рви ты их, может, еще не расстреляют”. Солдат остановился и молча спрятал поредевшую пачку обратно в карман.
Военный корреспондент Тихомиров и я, как герои фильма Куросавы “Расемон”, предлагаем две версии того же события. А что же было на самом деле?..
Когда началась война, мне было 22 года, я оканчивал первый курс аспирантуры ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории); наскоро изучая норвежский язык, начинал писать диссертацию об Ибсене. Я был очень связан взаимной любовью и, я бы сказал, дружбой с родителями, особенно с матерью, которая с 36–летнего возраста была прикована болезнью к постели (оставаясь душой семьи, дома и круга друзей). Тем не менее я был уже женат студенческим браком “при родителях”. На фоне принятых в среде студентов ИФЛИ ранних браков мой считался чуть ли не “поздним”.
В этом плане в ИФЛИ господствовала известная добродетель, но, как бы сказать, на фоне и на основе всеобщего товарищества: молодые люди вместе готовились к экзаменам и сидели рядом друг с другом на комсомольских собраниях, товарищеское сближение достигало любви и брака, не меняя своего основного колорита и не отрывая молодую пару от других товарищей обоих полов, от общих политических, поэтических, учебных и иных интересов.
Мне это казалось очень прозаическим, и я стал ухаживать за Ниной скорей потому, что она была блондинкой (вокруг преобладали брюнетки), не с одного со мной “цикла” (не западница, а русистка), несколько нелюдима и таинственно молчалива; она, конечно, была комсомолкой (в отличие от меня), но не активисткой. И все же, принадлежа по своему происхождению к рафинированному интеллигентскому кругу, она явно стыдилась своей среды, мешала своей матери щеголять иностранными словами, беря телефонную трубку говорила “ась”, и хотя она безусловно любила меня (и не вышла замуж после нашего развода), но все же вечно противопоставляла мне в качестве идеала одного комсомольского активиста — совершенно некультурного парнюгу. Она обожала “Как закалялась сталь” и после окончания ИФЛИ водила экскурсии “по Николаю Островскому” в литмузее. Я знал, что ей очень хотелось, чтобы “если завтра война”, я стал бы там героем, но у нее не было уверенности, что так и будет.
Вспоминая прошлое, я, может быть, немного утрирую, но суть была именно такой.
Когда я вернулся из “войны” в “мир” после фронта, окружения и тюрьмы (о чем речь впереди), Нина написала мне в Ташкент, куда я добрался тогда с острой цингой, в рубище и без копейки, ласковое в общем письмо, где были, однако, и такие слова: “Ты все же оказался не лучше, чем я думала”. Бедной Нине казалось, что герои не попадают в окружение (в которое в 1942–м попало одиннадцать армий, а командир нашей дивизии официально распустил всех выбираться из этого мешка, кто как сумеет) и тем более в тюрьму.
Любопытная параллель: на пятом курсе, незадолго перед тем, как встал вопрос, кого оставят в аспирантуре (а потому значимо было всякое “выдвижение”), меня выдвинули от курса в “ударники”, но это вызвало протест секретаря факультетского бюро комсомола (я не был комсомольцем!) Яши Блинкина, который заявил, что я веду общественную работу если не “для себя”, то “на себя” (организация научных семинаров тогда не входила в обязательную программу, не было еще НСО — научного студенческого общества), и что такой человек, сосредоточенный на чисто научных интересах, пожалуй, и Родину будет защищать чужими руками (Яша Блинкин всю войну просидел в тылу в Тбилиси, в штабе, комиссаром).
В аспирантуру я все же был принят, и уже прошел год этой аспирантуры, когда для меня наступила пора защищать Родину и показать, что я лучше, чем обо мне думают и жена, и секретарь комсомольского бюро.