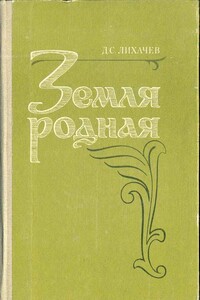Что стало затем с Журой и с Евгенией Константиновной? Могли ли они жить после всего этого? Сперва они приехали не то в Самару, не то в Саратов. Они обе были в театре и в театре встретили Б. М. Эйхенбаума, который успел выехать из Ленинграда позднее их на несколько недель. Они бросились к нему (в театре!) и спрашивали: «Что с Василием Леонидовичем?» Больше он их не видел, он не мог им ничего сказать. Говорят, они были на Северном Кавказе (не то в Пятигорске, не то в Кисловодске). Их захватили немцы, и с немцами они уехали. Я был уверен, что их нет в живых.[18]
Таких случаев, как с Василием Леонидовичем, было много. Модзалевские уехали из Ленинграда, бросив умиравшую дочурку в больнице. Этим они спасли жизнь других своих детей. Эйхенбаумы кормили одну из дочек, так как иначе умерли бы обе. Салтыковы весной, уезжая из Ленинграда, оставили на перроне Финляндского вокзала свою мать привязанной к саночкам, так как ее не пропустил саннадзор. Оставляли умирающих: матерей, отцов, жен, детей; переставали кормить тех, кого «бесполезно» было кормить; выбирали, кого из детей спасти; покидали в стационарах, в больницах, на перроне, в промерзших квартирах, чтобы спастись самим; обирали умерших – искали у них золотые вещи; выдирали золотые зубы; отрезали пальцы, чтобы снять обручальные кольца у умерших – мужа или жены; раздевали трупы на улице, чтобы забрать у них теплые вещи для живых; отрезали остатки иссохшей кожи на трупах, чтобы сварить из нее суп для детей; готовы были отрезать мясо у себя для детей; покидаемые – оставались безмолвно, писали дневники и записки, чтобы после хоть кто-нибудь узнал о том, как умирали миллионы. Разве страшны были вновь начинавшиеся обстрелы и налеты немецкой авиации? Кого они могли напугать? Сытых ведь не было. Только умирающий от голода живет настоящей жизнью, может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование, не боясь смерти. И мозг умирает последним: тогда, когда умерла совесть, страх, способность двигаться, чувствовать у одних и когда умер эгоизм, чувство самосохранения, трусость, боль – у других.
Правда о ленинградской блокаде никогда не будет напечатана. Из ленинградской блокады делают «сюсюк». «Пулковский меридиан» Веры Инбер – одесский сюсюк. Что-то похожее на правду есть в записках заведующего прозекторской больницы Эрисмана, напечатанных в «Звезде» (в 1944 или 1945 году). Что-то похожее на правду есть и в немногих «закрытых» медицинских статьях о дистрофии. Совсем немного и совсем все «прилично»…
Виктор Карамзин в статье «Кто сочтет… (Ленинград. Блокада. Дети)» (ж. «Наш современник». 1986. № 8. С. 170) утверждает: «Умерло в блокаду 632 253 ленинградца». Какая чушь! Сосчитать до одного человека! На основании каких документов и кто считал?
Вот уж воистину «Кто сочтет…» – кто сочтет провалившихся под лед, подобранных на улицах и сразу отвезенных в морги и траншеи кладбищ? Кто сочтет сбежавшихся в Ленинград жителей пригородов, деревень Ленинградской области? А сколько было искавших спасения из Псковской, Новгородской областей? А всех прочих – бежавших часто без документов и погибавших без карточек в неотапливаемых помещениях, которые им были выделены, – в школах, высших учебных заведениях, техникумах, кинотеатрах?
Зачем преуменьшать, и явно – в таких гигантских размерах – в три, четыре раза. Г. Жуков в первом издании своих «Воспоминаний» указывал около миллиона умерших от голода, а в последующих изданиях эту цифру исключили под влиянием бешеных требований бывшего начальника снабжения Ленинграда.
А в августе 1942 года во время совещания в горисполкоме, по словам профессора Н. Н. Петрова, присутствовавшего на нем, было сказано, что только по документам (принятым при регистрации) к августу 1942 погибло около 1 миллиона 200 тысяч…
Об этом у меня есть записи на книге этого мерзавца-снабженца.
В феврале и в марте смертность достигла апогея, хотя выдачи хлеба чуть-чуть увеличились. Я на работу не ходил, изредка выходил за хлебом. Продукты и хлеб приносила Зина, выстаивая страшные очереди. Хлеб был двух сортов: более черный и более белый. Я считал, что надо брать более белый. Мы так и делали. А он был с бумажной массой! Очень хотелось горбушек. Жадно смотрели на довесочки. Многие просили продавцов сделать довески: их съедали по дороге. Отец, когда Зина приносила ему порцию хлеба, ревниво следил, есть ли довески. Он боялся, не съела ли их Зина по дороге. Но, как всегда, Зина стремилась взять себе меньше всех. Стеблины-Каменские по дороге до дому съедали половину того, что получали. Люди сжевывали крупу, ели сырое мясо, так как не могли дотерпеть до дому. Каждую крошку ловили на столе пальцами. Появилось специфическое движение пальцев, по которому ленинградцы узнавали друг друга в эвакуации: хлебные крошки на столе придавливали пальцами, чтобы они прилипли к ним, и отправляли эти частицы пищи в рот. Просто немыслимо было оставлять хлебные крошки. Тарелки вылизывались, хотя «суп», который из них ели, был совершенно жидкий и без жира: боялись, что останется жиринка («жиринка» – это ленинградское слово тех лет, как и «довесочек»). Тогда-то у нас на подоконнике и умерла от истощения мышь…