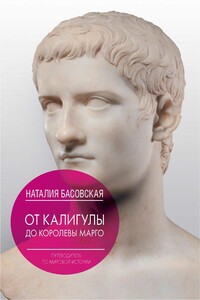Этот неожиданный подарок очень обрадовал меня. Меня очень огорчало и волновало до сего дня, что меня могут расстрелять, не давши мне возможности причаститься. Исповедовался я у О. П. Левицкого в 3-м исправдоме два раза; исповедовался у о. Сергия Шеина в 1-м исправдоме в день переправки нас на Шпалерку. А причащался лишь на свободе, почти два месяца тому назад. А тут вдруг присылают Св. Причастие. Как радостно и торжественно было на душе!.. Это Преподобный Сергий прислал...
Но скоро же стали появляться и другие противоположные мысли, совсем не радостные ... Стало думаться: зачем прислали Св. Дары теперь (я не знал, конечно, тогда, что прислали их из Сергиевского Собора по ходатайству владыки митрополита с разрешения тюремного начальства). Не узнали ли на воле о печальном исходе нашего дела в Москве и нас напутствуют на смерть? Ведь как раз исполняется вторая неделя после окончания нашего процесса. Но если так, то почему прислали всем? Неужели всех к расстрелу? Но это выйдет тяжелее московского процесса, где из 11 приговоренных только пять расстреляли... Но сам обвинитель Смирнов [21] на суде заявил, что наш процесс менее серьезен, чем московский. И вдруг окажется, что у нас исход будет печальнее московского?! Не может быть этого! Значит, присылкой Св. Даров не к расстрелу нас готовят. А, быть может, к расстрелу? Ведь всего я знать не могу... Вот и началась борьба между двумя направлениями в рассуждении и настроении...
Конечно, наступающую ночь я ожидал с тревогой, тревожно и проводил ее, ожидая, что вот-вот откроется дверь и возьмут меня куда-то далеко. Так и следующую ночь проводил. Но это была тревога не из-за боязни смерти от расстрела, быть может, при предварительных издевательствах и глумлениях, чего так много было на суде и что естественно было ожидать и, конечно, не в меньшей степени и перед расстрелом и в момент его. Но Св. Дары, причащение их сильно бодрило и даже успокоительно примиряло со смертью. Хотя умру, но все же со Христом, через причащение Его Тела и Крови...
Причащался я дней 5 подряд, и это было радостно и отрадно. День на Шпалерке обычно распределялся так. В 7-8 часов утра вставал, вычитывал медленно все утренние молитвы и канон дневному святому недели, это продолжалось около часу. После этого ходил из угла в угол по камере, лежал, читал Евангелие или Иоанна Златоуста. В 12 часов обед и чай, - опять лежал, ходил, прочитывал акафисты Сладчайшему Иисусу, а через небольшой промежуток прочитывал Акафист Божьей Матери. В 5 часов ужин и чай, прочитывал канон покаянный Спасителю, молебный Божьей Матери и, отдохнув немного, вечерние молитвы. Под праздники совершал перед вечерними молитвами всенощную, а утром в праздничные дни - обедницу. Нередко, бродя по камере, выпевал все, что знал наизусть из церковных песнопений. Обычно после хорошей молитвы наступало хорошее духовное успокоение, а нередко переживались долгие минуты высокого религиозного подъема и всецелой отрешенности от земного и плотского с искренней преданностью себя воле Божьей.
Кажется, я исчерпал описанием всю фактическую сторону жизни на Шпалерке. Остается коснуться самого главного: душевного состояния, внутренней жизни. Она вся стояла под одним, всегда гвоздем стоявшем в голове и щемившим сердце, вопросом: расстреляют или нет. Вопрос этот был в высшей степени неотвязчив, назойлив. Что бы я ни делал, чем бы ни старался занять себя, он неотступно мучил меня. Именно мучил. Возьмешься за Евангелие, он мешает понимать; а Златоуста я даже долго не мог читать. И только письма его к Олимпиаде меня несколько отвлекали и развлекали. И тут прочтешь тричетыре строки и опять незаметно отдаешься старой неотвязчивой мысли; читаешь и не понимаешь. Только на молитве, и то не сразу, не скоро, позабывался. Грустно, тяжело на душе; как-то темно, безотрадно, состояние какой-то безотчетной тоски, чего не выразишь словами, не втиснешь ни в какие определенные понятия и формулы. Станешь на молитву и чувствуешь, как будто тебя какая-то неведомая сила отталкивает от нее; страшно не хочется молиться; произносишь слова, а в голове все тот же мучительный вопрос, в сердце нет успокоения. Читаешь и не понимаешь, перечитываешь по два по три раза одним и те же слова молитвы и, только так себя приневоливаешь, наконец-то освобождаешься от своего мучения, на душе становится тихо, ублаготворенно, и кончаешь молитву успокоенным и, пожалуй, даже радостным, нашедшим как будто благоприятный ответ на этот вопрос и готовым хоть сейчас идти на смерть. Только тюрьма дала почувствовать и пережить истинное наслаждение, успокоение и радость в молитве и от молитвы. Я прежде не раз слышал, что одиночные заключения сами по себе, даже без страха не ныне-завтра быть казненным, доводили немало людей до сумасшествия. Прежде это была для меня лишь фраза; теперь я понял всю самую подлинную настоящую ужасную правду ее. Тюремное одиночество легко и естественно может довести до сумасшествия. Нас - смертников от этой беды спасала вера в Божий Помысел и молитва.