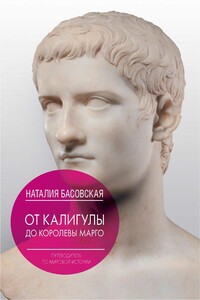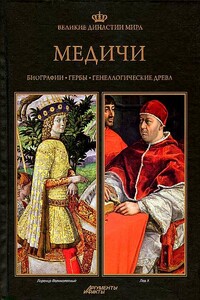Начиная с конца второй недели сидения на Шпалерке, настроение стало заметно изменяться у меня в сторону все большего и большего уныния и грусти. Вот-вот, не сегодня, так завтра придет известие из Москвы. Радостное ли? Но какие основания надеяться на это? И начнешь, бывало, в сотый раз обсуждать и переоценивать все, что, казалось, могло утешить и радовать меня. Но сейчас же пессимистическое и мрачное брало мысль мою в свою власть и начинало выходить, "что не надейся свет мой по пустому". И с каким, бывало, нетерпением ожидаешь дня передачи из дома, когда получится из дома письмо, а в нем, быть может, что-нибудь радостное и утешительное о своей судьбе. И каждое слово полученной записочки обдумываешь, сопоставляешь и т. п. Ищешь в ней хоть какие-нибудь намеки на доброе или тяжелое для себя.
Почему-то особенно тяжело бывало мне с утра, часов до 45 дня. Ничем, бывало, себя не займешь, не заинтересуешь... Я старался заставлять себя больше лежать, дремать. А тут, как-то уже во второй половине сидения вышло распоряжение начальства, чтобы к 8-ми часам утра койка была убрана и чтобы никто на ней не лежал до обеда. Что тут было делать со столь длинным утром?
Представляя всю мучительность бессонной ночи, я старался дне, не спать или только дремать. Я со слов многих знал, что расстреливают по ночам: зимой с вечера, а летом на утренней заре. Ночи в июле были короткие, и это опять было большим благом. Ложиться я старался попозже, так как рассвет начинался рано, то я спокойно и засыпал: если с вечера оставили на койке, значит, утром не расстреляют. Зато с вечера бывало прислушиваешься ко всякому гудку мотора, к шагам в коридоре, к звяканию ключами в дверях соседних камер. Однажды я совсем было уже решил, что час мой пришел: я уже лег и почти задремал, в камере уже стемнело, вдруг слышу звякание ключей в моем замке, именно моей камерной двери. Зачем ее отпирают в такой поздний час? Ответ мог быть только один, и самый печальный. Я привстал, перекрестился и приготовился идти. На душе было как-то совсем спокойно, какая-то решимость овладела мной. Дверь отворилась, но быстро же и захлопнулась, и я услышал только слова: "извините, мы ошиблись" ... Вероятно, водили кого-то из соседней одиночки гулять вечером и при водворении его на место жительства ошиблись камерой. Я уже писал, что суеверие и приметы в дни тяжелых ожиданий весьма присущи. И мне поверилось, да как-то убежденно, что расстрел мой миновал меня, я его как бы отбыл вот в этом факте, ибо если живого похоронят по людской молве, то, по примете, это признак его долгой будущей жизни. И дня два я был спокойнее обычного.
Отчего же в эти сорок дней так тяжело чувствовалось и мрачные мысли овладевали мной? Теперь (в феврале 1923 г.), когда я вспоминаю перечувствованное и пережитое и уже хладнокровно анализирую все это, я могу так ответить: тяжело было не от того, что скоро могу умереть. Нет! Я мыслил, что мне уже 52 года, что жизнь моя, можно сказать, уже прожита, что какое громадное количество людей умирают, не доживши до этих лет и т. п. Тяжело было, что я умру ни за что, ни про что. За веру и за Церковь? И тогда и теперь отвечаю на это почти отрицательно. Конечно, нашим процессом надеялись унизить веру, подорвать авторитет духовенства, разорить церковь. Но в моих отношениях к изъятию церковных ценностей этого стояния за веру было очень мало. Было больше борьбы за церковное золото и серебро, за имущественное достояние и права Церкви. А стоит ли за это умирать?
Тяжело за это умирать... Тяжело умирать, как и теперь сидеть в тюрьме, от сознания, что научных и жизненных знаний у меня достаточно, и умственных и физических сил не занимать стать, и желания работать, и именно в это бурное время и совсем не в контрреволюционном направлении, у меня немало. И вдруг смерть... Смерть - жертва?.. Но для кого она нужна? Кого она побудит к подражанию? Да и чему в нашем деле подражать? Смерть мученика? Но за что? За ценности вещественные? Не велика цена такой смерти... А тут сейчас же выплывали мысли о семье, о той (т. е. о жене), которой во всю семейную жизнь так много выпало страданий и горестей, о малых детях, о их духовной незрелости и материальной необеспеченности. Старался постоянно приводить себе на память слова псаломопевца, что дети праведного не останутся нищими и голодными. Но то детей праведного, а я разве за правду страдаю, за веру? Не повелевала ли правда без всяких рассуждений и подозрений отдавать все церковное серебро в пользу голодающих [22]?! Да, действительно, я ни в чем не повинен, в чем меня обвиняют на суде и так сурово наказывают. Но вся моя прежняя жизнь, со всеми ее грехами и неправдами, разве не взывала об отмщении мне? Не хочет ли Господь за мои грехи покарать моих детей?! Вот это-то последняя мысль, до которой я часто доходил, особенно угнетала и давила меня. Из-за меня страдают и еще будут страдать ни в чем не повинные дети мои?! Да, сознание этого тяжелее всякого физического наказания и страдания. И умереть с мыслью, что дети тебя будут обвинять в их жизненных страданиях и горестях, казалась мне самым величайшим Божим наказанием, и тяжело, очень тяжело было.