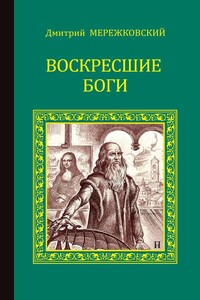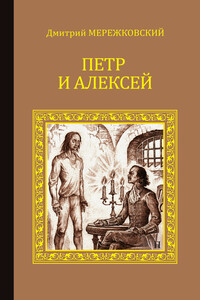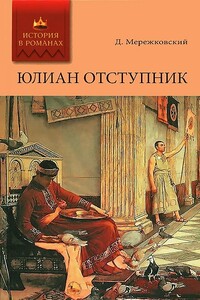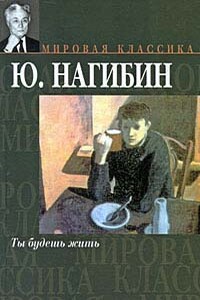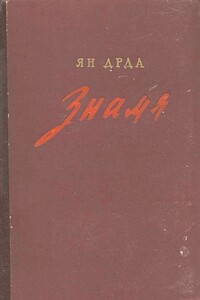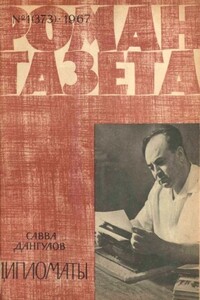В прежнем тихом отчаянии отвернулся он от Распятия – и в то же мгновение почудилось ему, что смрадный туман, страшный запах гари проникает и сюда, в последнее убежище.
Закрыл лицо руками.
И ему представилось то, что он видел недавно, хотя не мог бы сказать, было ли то во сне или наяву: в глубине застенка, в отблеске красного пламени, среди орудий пытки и палачей, среди окровавленных человеческих тел – обнаженное тело Кассандры, охраняемое чарами Благого Змия, Освободителя, бесчувственное под орудиями пытки, под железом, огнем и взорами мучителей – нетленное, неуязвимое, как девственно-чистый и твердый мрамор изваяний.
Очнувшись, понял по догорающей свече и числу колокольных ударов на монастырской башне, что несколько часов прошло в забытьи и что теперь уже за полночь.
Было тихо. Туман, должно быть, рассеялся. Смрадного запаха не было; но сделалось еще жарче. В окне мелькали бледно-голубые зарницы, и, как в памятную грозовую ночь у Катаранской плотины, слышалось глухое, точно подземное, ворчание грома.
У него кружилась голова; во рту пересохло; мучила жажда. Вспомнил, что в углу стоит кувшин с водой. Встал, держась рукой за стену, дотащился, выпил несколько глотков, помочил голову и уже хотел вернуться на постель, как вдруг почувствовал, что в келье кто-то есть, – обернулся и увидел, что под черным Распятием кто-то сидит на постели фра Бенедетто, в длинной, до земли, темной, точно монашеской одежде с остроконечным куколем, как у братьев «баттути», закрывающим лицо. Джованни удивился, потому что знал, что дверь заперта на ключ, – но не испугался. Испытывал скорее облегчение, как будто только теперь, после долгих усилий, проснулся. Голова сразу перестала болеть.
Подошел к сидевшему и начал всматриваться. Тот встал. Куколь откинулся. И Джованни увидел лицо, недвижное, белое, как мрамор изваяний, с губами алыми, как кровь, глазами желтыми, как янтарь, окруженное ореолом черных волос, живых, живее самого лица, словно обладавших отдельною жизнью, как змеи Медузы.
И торжественно, и медленно, как бы для заклятся, подняла Кассандра – это была она – руки вверх. Послышались раскаты грома, уже близкого, и ему казалось, что голос грома вторит словам ее:
Небо – вверху, небо – внизу,
Звезды – вверху, звезды – внизу,
Все, что вверху, все и внизу, —
Если поймешь, благо тебе.
Черные одежды, свившись, упали к ногам ее – и он увидел сияющую белизну тела, непорочного, как у Афродиты, вышедшей из тысячелетней могилы, – как у пеннорожденной богини Сандро Боттичелли с лицом Пречистой Девы Марии, с неземною грустью в глазах, – как у сладострастной Леды на пылающем костре Савонаролы.
В последний раз взглянул Джованни на Распятие, последняя мысль блеснула в уме его, полная ужасом: «Белая Дьяволица!» – и как будто завеса жизни разорвалась перед ним, открывая последнюю тайну последнего соединения.
Она приблизилась к нему, охватила его руками и сжала в объятиях. Ослепляющая молния соединила небо и землю.
Они опустились на бедное ложе монаха.
И всем своим телом Джованни почувствовал девственный холод тела ее, который был ему сладок и страшен, как смерть.
V
Зороастро да Перитола не умер, но и не выздоровел от последствий своего падения при неудачном опыте с крыльями: на всю жизнь остался он калекою. Говорить разучился, только бормотал невнятные слова, так что никто, кроме учителя, не разумел его. То бродил по дому, не находя себе места, хромая на костылях, огромный, неуклюжий, взъерошенный, как большая птица; то вслушивался в речи людей, как будто стараясь что-то понять; то, сидя в углу, поджав под себя ноги и не обращая ни на кого внимания, быстро наматывал длинную полотняную ленту на круглый брусок – занятие, придуманное для него учителем, так как в руках механика оставалась прежняя ловкость и потребность движения; строгал деревянные палочки, выпиливал чурки для городков, вырезывал волчки; или целыми часами, в полузабытьи, с бессмысленной улыбкой, раскачиваясь и махая руками, точно крыльями, мурлыкал себе под нос все одну и ту же песенку:
Курлы, курлы,
Журавли, орлы
Среди солнечной мглы,