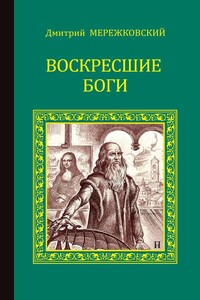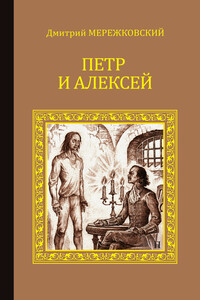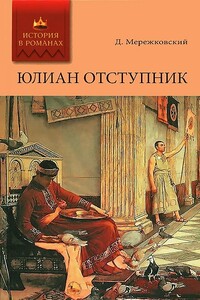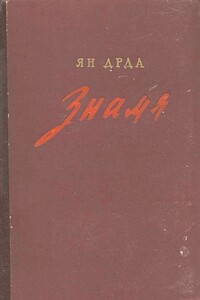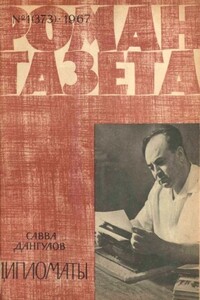Окончив рисунок, сбоку на том же листе, над изображением мышц и мускулов плеча, Леонардо сделал надпись:
«И ты, человек, в этих рисунках созерцающий дивные создания природы, если считаешь преступным уничтожить мой труд, – подумай, насколько преступнее отнять у человека жизнь, подумай также, что телесное строение, кажущееся тебе таким совершенным, ничто в сравнении с душою, обитающей в этом строении, ибо она, чем бы ни была, есть все-таки нечто божественное. И, судя по тому, как неохотно расстается она с телом, плач и скорбь ее не без причины. Не мешай же ей обитать в созданном ею теле, сколько сама она пожелает, и пусть коварство твое или злоба не разрушают этой жизни, столь прекрасной, что воистину – кто ее не ценит, тот ее не стоит».
Пока учитель писал, ученик с такой же безнадежною отрадою смотрел на тихое лицо его, как заблудившийся в пустыне, умирающий от зноя и жажды путник смотрит на снежные горы.
IV
На следующий день Бельтраффио не выходил из комнаты. Ему с утра недомогалось, болела голова. До вечера пролежал в постели, ни о чем не думая.
Когда стемнело, послышался над городом необычайный, не то похоронный, не то праздничный, перезвон колоколов, и в воздухе распространился слабый, но упорный и отвратительный запах гари. От этого запаха у него еще сильнее разболелась голова и стало тошнить.
Он вышел на улицу.
День был душный, с воздухом сырым и теплым, как в бане, один из тех дней, какие бывают в Ломбардии во время сирокко, поздним летом и ранней осенью. Дождя не было. Но с крыш и с деревьев капало. Кирпичная мостовая лоснилась. И под открытым небом, в мутно-желтом липком тумане еще сильнее пахло зловонною гарью.
Несмотря на позднее время, на улицах было людно. Все шли с одной стороны – с площади Бролетто. Когда он вглядывался в лица, ему казалось, что встречные в таком же полузабытьи, как он, – хотят и не могут проснуться.
Толпа гудела смутным тихим гулом. Вдруг, по случайно долетевшим до него отрывочным словам о только что сожженных ста тридцати девяти колдунах и ведьмах, о моне Кассандре, он понял причину страшного запаха, который его преследовал: это был смрад обгорелых человеческих тел.
Ускорил шаг, почти побежал, сам не зная куда, натыкаясь на людей, шатаясь, как пьяный, дрожа от озноба и чувствуя, как зловонная гарь, в мутно-желтом, липком тумане, гонится за ним, окутывает, душит, проникает в легкие, сжимает виски тупо ноющей болью и тошнотою.
Не помнил, как доплелся до обители Сан-Франческо и вошел в келью фра Бенедетто. Монахи пустили, но фра Бенедетто не было – уехал в Бергамо.
Джованни запер дверь, зажег свечу и в изнеможении упал на постель.
В этой смиренной обители, столь ему знакомой, все по-прежнему дышало тишиной и святостью. Он вздохнул свободнее: не было страшного зловония, а был особенный монастырский запах постной оливы, церковного ладана, воска, старых кожаных книг, свежего лака и тех легких, нежных красок, которыми фра Бенедетто, в простоте сердечной, пренебрегая суетным знанием перспективы и анатомии, писал своих Мадонн с детскими лицами, праведников, осиянных горнею славою, ангелов с радужными крыльями, с кудрями, золотыми, как солнце, в туниках, голубых, как небо. Над изголовьем постели, на гладкой белой стене, висело черное Распятие и над ним подарок Джованни, засохший венчик из алых маков и темных фиалок, собранных в памятное утро в кипарисовой роще, на высотах Фьезоле, у ног Савонаролы, в то время как братья Сан-Марко пели, играли на виолах и плясали вокруг учителя, как маленькие дети или ангелы.
Он поднял глаза на Распятие. Спаситель все так же распростирал пригвожденные руки, как будто призывая мир в Свои объятия: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Не единая ли это, не совершенная ли истина? – подумал Джованни. – Не упасть ли к ногам Его, не воскликнуть ли: Ей, Господи, верую, помоги моему неверию!»
Но молитва замерла на губах его. И он почувствовал, что, если бы вечная гибель грозила ему, он не мог бы солгать, не знать того, что знал, – ни отвергнуть, ни примирить двух истин, которые спорили в сердце его.