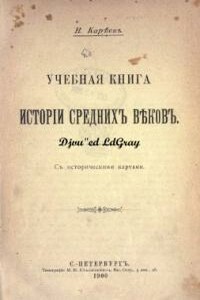Биография Тюрго
Тюрго – одна из самых крупных личностей предреволюционной Франции. Мыслитель, принадлежавший к числу «философов», один из наиболее крупных представителей физиократической школы экономистов, он выступил в роли государственного человека, у которого был целый план преобразований, долженствовавших пересоздать Францию. Реформы Тюрго потерпели, однако, неудачу, разбившись, как и преобразования Иосифа II, о консервативную оппозицию, но тем не менее на них с интересом останавливались историки, а некоторые из них даже утверждали, что не помешай министру-реформатору эта оппозиция и бесхарактерность короля, во Франции была бы предотвращена революция, т. е. в истории возрождения Франции революцию заменила бы мирная реформа.
Тюрго, происходивший из древнего нормандского рода, родился в 1727 г. в Париже и получил богословское образование в Сорбонне, где обратил на себя внимание своими выдающимися способностями, с которыми как-то не гармонировали его робость, неловкость и застенчивость, не покидавшие его всю жизнь. Уже будучи министром, он однажды извинялся перед Людовиком XVI в том, что чувствует себя смущенным, и король на это ему ответил, что знает о его конфузливости. В Сорбонне молодой Тюрго, уже тогда интересовавшийся экономическими вопросами[1],изучал главным образом богословские предметы, выдерживал установленные экзамены и получал соответственные звания. В 1749 г. он достиг почетного звания приёра (prieur), в качестве какового в следующем году произнес две речи, имеющие важное значение в истории идеи прогресса в XVIII в. В одной речи молодой клирик говорил о выгодах, доставленных человеческому роду введением христианства, во второй – о последовательных успехах человеческого ума. В том же году Тюрго оставил Сорбонну, отказавшись вместе с тем и от церковной карьеры; в это время он уже посылал Вольтеру свои стихи, выходившие, впрочем и совсем неудачными. После этого Тюрго поступил на государственную службу и в начале шестидесятых годов занимал уже должность интенданта в Лиможе. До своего отъезда из Парижа в Лимузен он близко сошелся со многими «философами» (с д'Аламбером, Гельвецием, Кондорсе и др.) и экономистами (с Кенэ, Мирабо-отцом, Дюпон де Немуром), а около 1762 г. познакомился и с Адамом Смитом. Через д'Аламбера он свел личное знакомство с Вольтером, который впоследствии приветствовал его вступление в министерство, как зарю нового будущего и был крайне опечален его отставкой (во время своих предсмертных триумфов в Париже Вольтер поцеловал руку Тюрго, «подписавшую спасение народа»). Д'Аламбер пригласил Тюрго сотрудничать в Энциклопедии, где он написал несколько статей, между прочим, статью о «существовании» (existence), появление которой сделалось целым литературным событием. Главною специальностью Тюрго стала, однако, не философия, а политическая экономия. В этой области он сочетал идеи Кене с идеями Гурне, сторонника полной свободы промышленности и торговли, которому принадлежит знаменитая формула «laissez faire, laissez passer». В 1752 г. Тюрго написал статью об этом последнем экономисте, а через несколько лет (1766) свой «Essai sur la formation et la distribution des richesses», только на десять лет предшествовавший «Богатству народов» Адама Смита. Это сочинение обратило на себя внимание Давида Юма, и он вступил с Тюрго в переписку по поводу некоторых пунктов физиократической теории. В 1761 г. Тюрго был сделан лиможским интендантом, т. е. получил весьма широкую власть над одною из 35 généralités, на которые в административном отношении была разделена Франция. Ему досталась бедная и обремененная налогами провинция, над улучшением быта которой он проработал около тринадцати лет, отказываясь от других назначений, дабы довести свое дело до конца. Население Лимузена относилось к нему двояко: порвав с традицией прежних интендантов, которые всячески мирволили дворянству, он сделался для него крайне неприятным человеком, но крестьяне полюбили Тюрго и жалели, когда он оставлял провинцию.
Реформаторский план Тюрго
Подобно другим физиократам и Тюрго был сторонником неограниченной королевской власти, полагая, что «равновесие властей» может сделаться ещё большим злом, чем то, против которого оно направлено. Вооружая короля всеми «правами государства», он думал, однако, что когда последние выходят за пределы необходимого, пользование ими может привести к тирании, и потому требовал, чтобы власть прежде всего уважала личную свободу, так как, говорил он, «правительства слишком привыкли приносить в жертву счастье отдельных лиц так называемым правам общества», «забывая, что общество существует для отдельных лиц». Полагая, что для уважения к свободе будет достаточно беспрепятственного и гласного заявления обществом своих желаний, Тюрго всего хорошего ожидал от благодетельной власти, приводящей в исполнение свои предначертания чрез чиновников, и в этом смысле понимал свою задачу, как интенданта, т. е. правительственного чиновника, облеченного широкими полномочиями: лиможская деятельность довершила выработку из него бюрократического реформатора. Лиможский интендант оказался человеком весьма определенных принципов, которые он развил в целом ряде циркуляров своим подчиненным и донесений своему начальству и осуществлял на практике, внося изменения в распределение налогов, падавших на провинцию, в систему торгового кредита, в хлебную торговлю, бывшую больным местом дореволюционной Франции и т. п. Тюрго оправдывал свои мероприятия и теоретически, не отказываясь от полемики, какую, например, возбудил вопрос о хлебной торговле в тогдашней публицистике. Политическая экономия едва зарождалась, Тюрго мог ошибаться, как во многом ошибались все физиократы, но к чести лиможского интенданта нужно сказать, «что обязанностью всех и прямым делом всех» он считал «облегчение всякого, кто только страдает», и что, став на эту точку зрения, он предпринял ряд благотворительных мер. У Тюрго было несколько приятелей и поклонников, оказавшихся в числе друзей Морепа, и они рекомендовали ему лиможского интенданта. В литературном мире, где Тюрго был хорошо известен, назначение его министром произвело впечатление. Кондорсе спешил с восторгом оповестить об этом Вольтера, и мы уже знаем, как отнесся фернейский патриарх к обрадовавшему всю Францию известию.