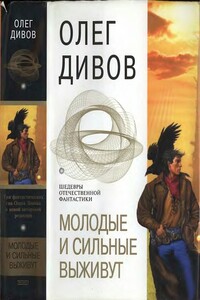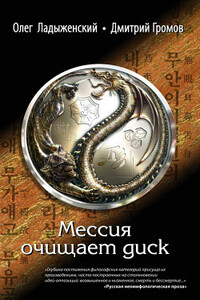Позади, перекрикиваясь, еще бежало с полдюжины душ детворы — остальные отстали раньше. Ну идет себе варнак-каторжанин, и идет — чего зря пялиться? И даже куда идет — всем известно... наглядимся ужо...
Дверь оказалась незапертой, хотя и притворена была плотно. Когда ты грюкнул в нее таким же деревянным с мороза, как и сама дверь, кулаком, она слегка поддалась. Чтобы войти, пришлось нагнуться; в затекшей спине явственно хрустнуло.
— Будьте здоровы, хозяева! Вот, к вам определили.
Взгляды. Со всех сторон, из углов, с полатей, с печи... Дети. Мал-мала меньше. Сколько ж их тут?! Сразу и не сосчитаешь. Ладно, успеется.
За длинным, чуть ли не во всю горницу, столом из темных досок — двое. Нестарая, но уже сильно битая жизнью баба кутается в драный шерстяной плат, смотрит выжидательно. Что, мол, еще скажешь, варнак? Интерес. Слабый, даже для нее самой удивительный.
Рядом — мужик. Хозяин дома, значит. Рябой, в замызганной холщовой рубахе с оторванным воротом, в кургузой кацавейке. Дергает бороденку, скалится щербатой ухмылкой:
— Ну, и ты, стал-быть, здоров будь, паря! Ссылочный?
— Ссылочный, — киваешь ты, двумя руками стаскивая с головы шапку.
— А кличут как?
— Дуфуней кличут. Дуфуня Друц.
— Чаво?
Бедолага, он аж слюной подавился. А баба — ничего, съела.
Бабы, они живучей.
— Зовут — Дуфуня. А по фамилии — Друц.
— Дуфуня... Это по-вашему, по-варнацки, што ли?
— Да нет, просто имя такое. От рождения, — ты пожимаешь плечами.
В спине снова щелкает. Короткая боль. Нет, отпустило...
— Вот ить окрестили! — сочувственно качает головой хозяин. — Дуфуня! Не, я тебя лучше Друцем звать буду.
— Зови, — тебе действительно все равно.
— Ну а я, стал-быть, Филат. За стол садись, што ли? Чекалдыкнем за знакомство...
— Я те щас «чекалдыкну», мерин сивый, ухватом по загривку! — мгновенно взвивается молчавшая до сих пор Филатова жена. — Только б зенки с утра залить, кочерыжина!
Справедливости ради надо сказать, что утро давно кончилось, и мглистый день успел перевалить за полдень. Впрочем, вслух этого говорить ты не стал: последнее дело — с порога пререкаться с хозяйкой дома!
— Да ты што, Палажка, сдурела?! Ить паря с морозу, сугреться ему надоть!
— Чаем пущай греется! — отрезала Палажка. Обернулась к ссыльному:
— Чай есть? А то не напасемся...
— Есть, — непослушное, окоченевшее лицо твое с трудом сложилось в некое подобие улыбки. — И чай есть, и солонина, и сухари, и даже сахара фунт — пайку на две недели вперед выдали.
Скинул котомку, начал развязывать узлы. Руки не слушались. Ты прекрасно знал, что это — не только от мороза. А дальше будет еще хуже... дальше будет всегда хуже, и никогда — лучше.
Никогда.
— Ну вот, дура-баба, а ты водки жалеешь! — попрекнул жену Филат, жадно наблюдая, как ссыльный выкладывает на стол содержимое своей котомки. — Ну, Пелагея, ну, окстись, што ли...
— Ладно уж, ему — налей. А себе — на донышке! Чай, не ты с мороза пришел!
— Да будет тебе, разоралась... Тащи кашу, стал-быть, обедать будем. Эх-ма, жисть наша, пропащая...
«Это точно,» — подумал ты, медленно расстегивая крючки армяка.
* * *
Сивуха обожгла горло, горячим комом ухнула в желудок. На глазах выступили слезы. Да, отвык ты от хмельного, Друц-лошадник, Валет Пиковый, за пять-то лет строгой каторги, отвык едва ли не вчистую. А раньше, бывало...
Забудь, морэ![27]
Забудь о том, что было раньше; само слово проклятое «раньше» забудь! Прошлое — отрезанный ломоть; гнить тебе отныне здесь, на поселении, пока копыта не отбросишь, а ждать этого — по всему видать, что рукой подать...
Распухшие пальцы лишь с третьей попытки уцепили кусок солонины, кинули в рот — загрызть.
— Ниче, паря, щас полегчает. Давай-ка, стал-быть, еще по одной!
— Я те што баяла, пьянь кудлатая?! Я т-те што, кочерыжина?!
— Ладно, ладно... вот ить ведьма! Наградил боженька...
Рядом усердно стучало деревянными ложками все многочисленное семейство Луковок. Чавкали, давились, то и дело зыркая на ссыльного любопытными глазенками.
— И кудыть это Акулька запропастилась?
— А кудыть дуре деться? Ить жрать захочет — прибегит!
Хлопнула дверь. Пелагея обернулась к блудной дочери, и Филат, воспользовавшись этим, мигом хлюпнул в обе ваши кружки мутного пойла из четвертной бутыли, заткнутой комком пакли. Заговорщицки подмигнул; оскалился, стал-быть, со значением. Ты подмигнул в ответ — и едва успел в последний момент перекрыть знакомую волну, начавшую вздыматься из глубины, от низа живота и выше, к сердцу.