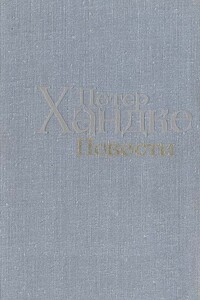Вот только слов она разобрать не могла, ни единого слова, не говоря уже о целой фразе. Прочитать можно было только отдельные буквы из всего растянувшегося начертанного каравана – так она это видела, – иногда, в виде исключения, сразу две. Она открыла глаза, посидела так некоторое время и снова закрыла. Запись исчезла? Стерлась? Улетучилась? Нет, вот она опять замерцала, плотными цепочками букв, из которых по-прежнему можно было разобрать только одну или две. В итоге получилась игра: а что, если покрепче закрыть глаза, может быть, запись станет в целом более ясной? – Не стала. – А что, если подержать глаза подольше открытыми, а потом перехитрить запись, которая, может быть, сделается более читабельной, оттого что глаза вдруг закроются как бы ненароком, исподтишка? – Запись на хитрости не поддавалась. Но продолжала тянуться дальше.
Многое уже повидала на своем молодом веку воровка фруктов, но такое ей довелось увидеть только этой ночью в Курдиманше, первый раз в жизни. Чем не достопамятное событие! Кому случалось до нее, или вместе с ней, в ее времена, наблюдать подобное? Или она действительно была первой и единственной и, стало быть, действительно, нет, буквально, «bel et bien», той самой «избранной», «избранной из всех женщин», о которой иногда толковал ее старый отец, по временам терявший с возрастом ясность ума и все пытавшийся внушить ей, что она особенная, но добившийся тем самым того, что она думала о себя прямо противоположное? – От этого она снова рассмеялась своим особенным смехом.
Удивительно, что она чувствовала себя надежно защищенной этим караваном букв за глазами, остаточным изображением? стенограммой? Самое время теперь вытянуться на чужой кровати, здесь, в дорогих сердцу чужих краях, и хорошенько выспаться. Широко распахнутое окно, без штор. Постепенно прекратилось хлопанье дверей на нижних этажах. Все гости ушли. Тишина в доме покойного, абсолютная. Извне лишь редкие и очень далекие звуки, откуда-то из глубины, из недр раскинувшегося там Нового города. А потом, совсем рядом, сверху, от церкви Курдиманша, короткий зов двух сов, который под конец, вырвавшись одновременно из глоток обеих ночных птиц, слился в один, превратившись из зова в трубный глас.
Этой ночью воровке фруктов снился сон о ребенке, ее собственном. Ей регулярно – можно сказать, как правило, – снился сон о каком-то ребенке, но при этом оставалось неясным, идет ли речь именно о ее ребенке. Этот сон она видела чаще всего, вместе с другим, о котором ее отец говорил, что он был семейным, клановым, унаследованным с незапамятных времен: тот же сон видел и он, тот же сон видела и его мать, и отец матери, и так далее, на протяжении столетий, и сводился он к тому, что спящий кого-то убил и вот теперь, во сне, это убийство, оставшееся без возмездия, близилось к раскрытию, что грозило позором для всей семьи, – позором без возможности искупления, – и при этом, утверждал отец, речь шла о реальном убийстве, совершенном в глубоком средневековье основателем рода, посягнувшим на жизнь короля. «Вот если бы он убил тирана, никаких навязчивых снов не было бы, вне всякого сомнения!» (Для ее отца очень многое было «вне всякого сомнения».)
Сон о том, что она убийца, уже давно ей не снился; со времен, когда она жила «под лестницей», почти никогда. А вот сны о младенце, совершенной крохе, с годами снились ей все чаще и чаще. И все без исключения они были кошмарами. Ее это был ребенок или нет, главное – ей доверили младенца. Она была единственной из ближних, кто отвечал за него. Часто бывало так, что вначале этот ребенок был обычного роста, но потом, по мере перехода от идиллии к катастрофе, он уменьшался и уменьшался, прямо у нее на глазах, превращаясь в горошину. Ребенок либо падал в воду, либо, что случалось чаще, он пробирался, на собственных ногах или ползком, на животе, через открытую дверь в соседнее помещение. Но это еще не было катастрофой. Вода была мелкой, глубина – едва с большой палец, даже для совсем уменьшившегося в размере человечка – никакой опасности, и к тому же прозрачная и спокойная, с твердым дном, чуть ли не у самой поверхности. Соседнее помещение было частью дома, точно таким же, как то, в котором только что играл ребенок, переместившийся в следующую комнату, чтобы продолжить игру. Катастрофа происходила в тот момент, когда она, думавшая, что ребенок вот тут, копошится у ее ног, вдруг обнаруживала, бросив взгляд на все ту же мелкую, прозрачную, спокойную воду, что доверенное ей существо исчезло – и сколько она ни шарила руками, все больше впадая в панику, ребенок так и не находился; или что в соседней комнате, через порог которой ребенок вот только что довольный и радостный перевалился, перекувырнулся, перескочил, играючи, чуть не запнувшись, его и след простыл, когда она, почти через секунду, вошла туда за ним, – ни звука, только пустое помещение, и такие же все остальные, никакого отклика на ее зов: ребенок пропал навсегда. Кошмар, ужас спящей, его невыносимая, нестерпимая тяжесть, которая, казалось, сейчас раздавит ей сердце, усугублялся, в отличие от прочих кошмаров, тем, что не было никакой явной причины катастрофы, отсутствовало некое действие, событие, происшествие, которое могло привести к такому исчезновению ребенка, в воде или в соседней комнате, к невозможности его найти, ни за что и никогда. Другие кошмары она, забывчивая от природы и одаренная своей собственной забывчивостью, со временем забывала, в основном уже на следующий день. Эти же, особенные кошмары, становились и оставались частью дня, множества последующих дней.