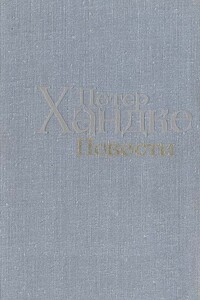Дальше можно было видеть, как оба путника вcе идут и идут по петляющей светло-песчаной дороге среди в основном сжатых полей, навстречу темно-желтому, северо-западному небу, на котором только что отыграл закат. Издалека кажется, будто они продолжают сохранять ритм неспешного измерения, разве что чуть ускорившись. Но вблизи нетрудно заметить, что молодой человек выбился из ритма. В какой-то момент он вдруг заcпешил и стал идти торопливо. Сделав несколько медленных шагов, он переходил на более быстрые, почти на бег, чтобы потом снова ненадолго вернуться к старательно замедленному шагу. И подобранные ржаные колоски, которые он несет перед собой и которые, в количестве трех, повторяются на эмблемах этого края, размещенных на дорожных указателях, – даже они не помогают ему снова встроиться в прежний ритм.
На молодого человека вдруг накатил, как гром из недр ясного неба, страх, великий страх, огромный. Он боялся, что придет слишком поздно, что они оба придут слишком поздно. Слишком поздно для чего? Слишком поздно. Слишком поздно куда? Где будет это слишком поздно? Слишком поздно. Катастрофу уже было не предотвратить. Что за катастрофа? Катастрофа. Он, они вдвоем могли бы ее предотвратить. Но теперь уже слишком поздно. Или, быть может, все же еще оставался шанс, минимальный, справиться с ситуацией и отвратить надвигающуюся беду, спасти в последнюю минуту, в самую последнюю секунду, в самую последнюю сотую долю секунды. Спасти кого? Себя самих? Кого-то другого, определенного? Спасти, спасти. Бога ради, спасти! И от этой мысли о такой крошечной возможности все же спасти себя и кого-то еще другого, других, страх молодого человека разросся до невероятных размеров. Страх-великан, вытеснявший с каждым шагом его самого изнутри; теперь по дороге шел не спотыкающийся молодой человек, а один только страх-великан.
Все чаще и чаще вот только что запинавшийся молодой человек переходил на бег и мчался что было духу, срезая повороты, прямо по жнивью. Там, где это было только возможно, воровка фруктов, двигавшаяся гораздо более проворно, чем он, обгоняла его и начинала идти размеренным шагом, в надежде, что ритм передастся и ему и что ей удастся заразить его спокойствием: все было напрасно. Уже давно онемев от страха, он попытался теперь избавиться от него через крик, зайдясь в рыдании, какое бывает у человека от безутешного горя или от мысли о том, что исчезает последняя, крошечная надежда; выл, стонал, скулил, продолжая идти, спотыкаясь, прямо по полям, без единой остановки. Отчего, кто его поймет.
Она его понимала, помня, наверное, о тех временах, когда сама плутала по полям, хотя в других местах, и мчалась, не разбирая дороги. Это и был один из сюрпризов, которых она ожидала от молодого человека? Вовсе нет. Но вечер, их общий совместный вечер, был еще впереди, и, слушая завывания своего спутника, глядя на его сопли, стекавшие потоками, как будто у него был не один нос, а несколько, она, Алексия-Из-Под-Лестницы, была исполнена уверенности – такая странная уверенность посещала ее не раз, – что сумеет заставить этого пропащего человека, словно потерявшегося на веки вечные, еще сегодня удивиться и от удивления рассмеяться. Пока же она пыталась отхлестать его по щекам, чтобы вернуть к реальности этого дня и часа.
От страха перед катастрофой его спасла неожиданно надвинувшаяся гроза, с темной грядой туч, которые в одночасье, в одно мгновение, возникли из-за гряды холмов Ля Мольер, появившись как в замедленной съемке. А там внутри уже проблески первых молний, за которыми через паузу следует пока еще слабый короткий раскат грома. Гроза была еще далеко. Утром они еще мечтали о ней, и теперь их желание исполнилось и обрело смысл: сверкнула молния, прогремел гром, и вот уже только что пребывавший в панике снова обрел равновесие. Одним махом, не прилагая к тому никаких усилий, он избавился от страха и вернулся в спокойное состояние. Он буквально излучал спокойствие. Любезный гром, милые молнии: существует ли такое на свете? Это зависит от того, кто слушает и смотрит, как и в какой момент.