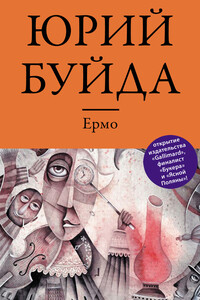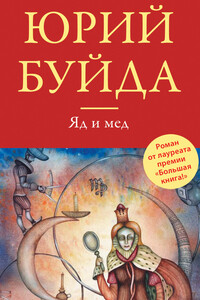Уже заполночь мы на цыпочках поднимались на наш чердак, в маленькую комнатку под крышей, где на полках были рассыпаны сушеные яблоки, и занимались любовью.
По субботам мы ходили на танцы в фабричном клубе.
Помню парня лет двадцати, который однажды вдруг вскарабкался на сетку, защищавшую окно танцзала, и с тоской завопил на весь зал: «Все пацаны как пацаны — все по тюрьмам, один я как дурак!..» Ему хотелось в тюрьму, и вскоре его посадили за зверское избиение соседской девчонки, которая не так на него посмотрела.
Анечка упорно занималась, готовясь к поступлению в институт, а я по-прежнему бездельничал, читал все подряд и писал стихи — километр за километром, мечтая о славе и деньгах. Мне нужна была пишущая машинка, чтобы перепечатать стихи и послать их в журналы и издательства. Но пишущие машинки стояли только в конторах, а я панически боялся открывать кому бы то ни было, что пишу стихи. Даже Анечка об этом не знала.
Помощь пришла с неожиданной стороны, как пишут даже в неплохих романах.
Секретаршей директора школы была Евдокия Ивановна, которую все звали Ногой. Она была хромой от рождения, считалась бессердечной тварью, и боялись ее пуще директора. Несколько раз меня вызывали «на ковер» к директору, и я помню атмосферу ледяного равнодушия в приемной, Евдокию Ивановну за пишущей машинкой и ее сухую реплику: «Сиди и не дергайся». Если она изредка выходила из приемной, школьники бросались врассыпную: Нога выбиралась из своей норы только в самых жутких случаях, например если речь заходила об исключении из школы. Она была невысокой, сухощавой, носила обтягивающие свитера под горло и юбки-годе. Жила рядом со школой, занимая комнатку наверху в двухэтажном домишке, а внизу, в двух комнатах, жила многодетная семья железнодорожников. О личной жизни Ноги мы ничего не знали. Однажды кто-то сказал, что у нее был сын, но он утонул на водопаде.
Меня вызвали к директору по какому-то пустячному поводу, и в ожидании приглашения я с завистью разглядывал две пишущие машинки на столе Евдокии Ивановны. Одна машинка была портативной. Нога стучала по клавишам не глядя.
— Как здорово у вас получается, — льстиво сказал я. — Хотел бы я научиться печатать на машинке. — Набрался смелости. — А можно у вас попросить вот эту, маленькую, на время? Я бы дома попробовал…
— Нет, — сказала она. — Зачем тебе машинка?
Я сказал, что надо кое-что отпечатать.
— Я могу сделать, — сказала она. — Но это стоит денег. Что у тебя?
И тут я брякнул:
— Стихи.
Нога повернулась ко мне всем телом и спросила:
— Ты пишешь стихи?
Отступать было некуда — я кивнул.
— Приноси, — сказала она. — Я сделаю.
На следующий день я принес две толстенные папки с завязками, набитые стихами.
— Машинка у меня дома, — сказала Нога. — Приходи в субботу, в семь. Знаешь, где я живу?
Я собирался в субботу на танцы с Анечкой, но делать было нечего.
Субботним вечером я постучал в дверь Ноги.
Она проводила меня в комнату, которую, казалось, приводила в порядок какая-нибудь специальная санитарная служба: ни соринки, ни пылинки, постель на железной кровати с высокими спинками заправлена идеально, всюду белоснежные салфетки и никаких запахов.
Нога была в халате, надетом на свитер, и в спортивных штанах: в доме было холодновато. Она пригласила меня за ширму, где была кухня, мы сели за стол, накрытый белой скатертью, она поставила на стол бутылку водки, две высокие рюмки, разлила, мы выпили — все молча — и только тогда заговорили о стихах. Мои стихи ее восхитили. Ты открыл мне новый мир, сказала она. Это настоящее, сказала она. Ты талант, сказала она. По памяти процитировала несколько моих строк. Мы выпили еще по рюмке. Оказалось, что она тоже пишет стихи. Для себя, конечно. Ну и для тех, кто смыслит в настоящей поэзии, сказала она. Прочла стихотворение о бурном сердце и отравленной любви. Сняла скатерь со стола, поставила блюдечко, разрешив курить, и снова налила в рюмки. Я быстро опьянел. Она читала свои стихи километр за километром, я кивал, стряхивал пепел в блюдечко и думал, как бы отсюда выбраться. Снизу доносились громкие звуки телевизора: шел хоккейный матч. Ну ладно, сказала Нога, иди сюда. Мы вышли на середину комнаты, она скинула халат и задрала свитер, из-под которого вывалились две огромные груди. В полутьме они показались мне лиловыми и пятнистыми. Когда мы занимались сексом, она скрипела зубами и выкрикивала: «Давай! Давай! Давай!» Я чувствовал себя хоккейным форвардом, от которого ревущий стадион хором требует гола.