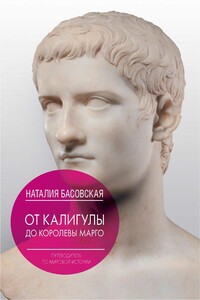На портрете он изображен на фоне операционной. Опершись о перила амфитеатра, стоит он еще в халате, но с рукавами, засученными по локоть. У ног его лежат белые штаны и бахилы, только что скинутые, и горят красные лампасы на синих брюках. Обнаженные руки написаны мягко и любовно. Его молодое лицо энергично и выразительно, в нем блеск ума ученого, решимость военного и обаяние большого таланта.
Я люблю этот портрет, он олицетворяет то, что ни со временем, ни с возрастом не увянет в самом Вишневском, это его сущность — талант и душевное богатство.
2
Пожалуй, за последние годы это было самое полноценное общение мое с отцом. Общение, какого ни до, ни после этих десяти дней, проведенных вместе у меня на подмосковной даче, не было. Петр Петрович писал с меня портрет, и это был последний. Он изобразил меня в профиль по пояс на небольшом холсте. Стою в меховой шубе и шапке, поверх которой накинут белый оренбургский платок. Рукой в зеленой перчатке, с золотым браслетом на запястье, поддерживаю тонкое шерстяное плетенье.
Я с детства позировала отцу и знаю, что никогда не живешь с ним такой общей жизнью, как во время сеансов. А общение с Петром Петровичем всегда было большой радостью для тех, кто знал и любил его.
Когда я смотрю в Третьяковской галерее на свой ранний портрет в розовом платье, то каждый раз думаю: «Господи! Неужели я была такой? Куда же это все девалось? Где этот блеск волос? Где румянец и беззаботная улыбка с ямочками на щеках?» Все исчезло, как истлело платье из розового шелка, прекрасно написанного кистью моего отца. В памяти сохранились занятные детали в процессе работы над этим портретом. Папа выбрал для меня трудную позу: согнувшись над зеленой бархатной скамеечкой, я завязываю шнурок на туфле. Лицо вполоборота подняла на отца и смеюсь к тому же. Долго в такой позе не выстоишь, проходит десять минут, и надо выпрямиться. Выпрямишься, отдохнешь и снова встанешь в позу, а складочки розового шелка ложатся совсем по-иному. И вот начинаются поиски складок, уже написанных, — выпрямишься, согнешься, выпрямишься, согнешься, пока Петр Петрович не воскликнет:
— Стой! Вот так и оставайся. Нашлись складки.
Мы тогда жили вместе всей семьей, и, пожалуй, это было для меня самое счастливое и беззаботное время. Оно так и осталось в этом портрете, который висит в Третьяковке с табличкой: «Портрет дочери». Встанешь теперь рядом с ним, и никому из посетителей и в голову не придет, что изображена на этом полотне — ты! Видно, не только внешне, но и внутренне, в самой сущности, меня такой нет и словно никогда и не было. И странно вспоминать, о чем тогда говорила, и думала, и чему смеялась…
Но «зимний» портрет, о котором началась речь, несмотря на то что он написан почти двадцать лет тому назад и уже пятнадцать лет, как нет с нами Петра Петровича, — этот портрет живет для меня моей жизнью до сих пор. Наверно, я где-то задержалась в моем душевном состоянии, как пассажир, который слез с поезда на какой-то остановке подышать свежим воздухом, да так и остался на полустанке, где ему показалось так хорошо, что дальше и ехать некуда!
Я смотрю на этот портрет и словно заряжаюсь токами бодрости и радости. И может быть, оттого, что только к моим пятидесяти годам, когда отец писал меня, я научилась брать от жизни подлинные ценности и скапливать в сердце и мозгу то, что служит постоянной потенцией для движения вперед.
Петру Петровичу было тогда семьдесят семь лет. Был он бодрым, энергичным, отлично работал, и я помню, как, вернувшись однажды домой с дальней прогулки, отряхивая от снега в передней меховые унты, присланные ему кем-то в подарок, говорил:
— Подумай, прошел сквозь метель километров восемь! И ничуть не устал, только проголодался. Обедать скоро будем?
Он входил в низенькие наши комнаты, большой и добрый, и когда подходил к окну, заслоняя его своим крупным телом, то в комнате становилось не темнее, а будто светлее от его присутствия, его спокойствия и мудрости.
— Эк, какой валит снег! И поработать-то не дает, — говорил он, глядя в окно.
Портрет, задуманный отцом, надо было писать в саду. И потому в снегопады дни были нерабочие. Пока решалась поза, делались зарисовки карандашом и портрет был в угле, можно было рисовать в доме, когда же папа взял палитру, надо было выходить в сад, и мы выходили. На расчищенной дорожке устанавливался мольберт с холстом, я становилась на фоне заснеженной яблони, за ней темнели сосны. Дни были морозные, долго не простоишь. На палитре замерзали краски, кисть промерзала до неподвижности. И тогда папа говорил: «Пойдем отогреваться, оттаивать». И мы уходили в дом. В кухне топилась плита, над ней на высоких кринках укладывали палитру, кисти клали в мойку, а сами, раздевшись, шли в столовую, где кипел самовар, и начиналось чаепитие.