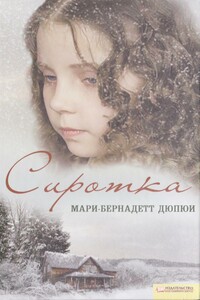Клер выскочила на улицу. Со вчерашнего дня ее привычная, такая безмятежная жизнь рушилась на глазах. Юноша, за которого она мечтала выйти замуж, застрелил ее собаку, а давний приятель Базиль обращается с ней, как с пятилетним ребенком, не способным ни выслушать, ни посочувствовать! В слезах она прибежала к Бертий.
— Нам лучше уехать, — сказала она кузине. — Я сама отнесу тебя к коляске.
Клер положила волчонка обратно на соломенную подстилку. Он сразу побежал к свинье, улегся и стал сосать.
— Забирайся мне на спину, Бертий! Базиль сердится, что мы его побеспокоили.
Девушки привыкли обходиться без посторонней помощи, поэтому вскоре обе уже сидели в коляске. До Пюимуайена ехать было недалеко, да и месса начнется еще нескоро. Но Клер все равно пустила лошадь галопом. Рокетта послушно побежала по дороге, рассекая хвостом морозный воздух. Базиль в окно наблюдал за их отъездом, больше напоминавшим бегство. Он уже упрекал себя за грубость.
«Ничего, Клер меня простит! У нее доброе сердце…»
Бывший школьный учитель чувствовал себя совершенно разбитым. Он тяжело опустился в кресло, в двух шагах от жарко натопленного камина. Из правого кармана пиджака он достал конверт, переданный ему отцом Жаком, который, как и положено кюре, был человеком сострадательным.
— Вот, Базиль, это тебе, — сказал он. — Мадам Жиро наказала своей камеристке передать мне конверт, уточнив, что предназначается он мсье Дрюжону.
Священник знал, в чем дело, вне всяких сомнений… Базиль вскрыл конверт, развернул лист бумаги, тихонько хрустнувший в его руках. Набрав в грудь побольше воздуха, начал читать:
Дорогой мой Базиль!
Ты получишь это послание, если я умру раньше мужа. Знай, что и у меня было несколько лет счастья в этом мире. Период помолвки, когда я еще не знала, что некоторые мужчины жестоки, потом — благословенное время, когда я растила сыновей. Пока они были маленькие, в них я находила утешение от многих тайных страданий.
Позднее у меня появился ты, и я помню каждую счастливую минуту, проведенную вместе. Наши чтения, наши дискуссии, твоя бесценная нежность! До конца жизни я буду жалеть, что не осмелилась последовать за тобой, когда ты меня об этом просил. Тогда не случилась бы трагедия, участниками который мы стали, была в том наша вина или нет.
Я исповедалась отцу Жаку. Как и ты, отныне он обречен хранить ужасную тайну, которая нестерпимо меня мучит. Живя с Эдуаром, я сотни раз искупила свой грех. Умоляю, не предавай меня, никогда! Не хочу, чтобы сыновья узнали правду. Такова моя последняя воля. Я буду любить тебя вечно, даже в аду, если врата рая останутся предо мной закрыты.
Твоя Марианна
Мужчина не глядя смял письмо, поцеловал и бросил в огонь. Листок, изготовленный мастерами Пастушьей мельницы, скрутился в пламени и еще какое-то время издавал потрескивания и свист, как агонизирующий зверь.
* * *
Два дня спустя Эдуар Жиро, одетый как на охоту, в гетрах из тонкой кожи и бархатной куртке с меховым воротником, присутствовал на похоронах супруги. Он даже надел белый шелковый шейный платок. Со скучающим видом сидел он между сыновьями (Бертран спешно приехал из Бордо), не считая нужным хотя бы изобразить печаль. Фредерик, по левую руку от него, смотрел в пол. Накануне он напился, а утром еще добавил.
К чему теперь вспоминать, как мать играла с ним в детстве, как помогала спускаться на велосипеде с крутых склонов… Впоследствии в родительском доме стали чаще кричать, и Марианна превратилась в слабую здоровьем женщину, которая почти не выходила из спальни и беспрерывно что-то читала. Он редко к ней наведывался, потому что в ее комнате ощущал себя глупым увальнем, который только и знает, что курит, сквернословит и пачкает ковер. Теперь, когда мать умерла, он чувствовал себя виноватым. Признаться же в истинных своих чувствах он мог только Бертрану.
— Когда я пришел домой после облавы, отец сказал, что мама умерла. Я поднялся к ней, и она показалась мне такой маленькой, такой хрупкой…
Я не смог ее поцеловать. Не хватило духу! У нее было перекошенное лицо. Я просто сбежал!
Бертран смотрел, как плачет старший брат, чьих вспышек гнева и грубостей он привык опасаться. За годы, проведенные им в ангулемском пансионе, они утратили родственные узы, связывавшие их в детстве. Фредерик завел друзей по своему вкусу, отказавшись общаться с родным братом, которого считал заучкой.