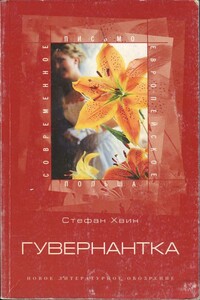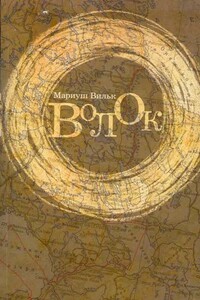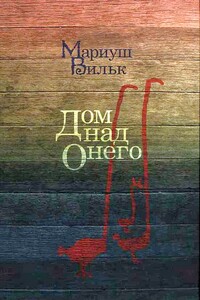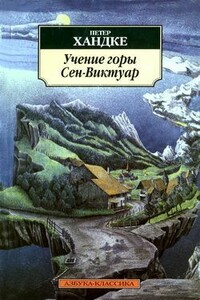Меня разбудил запах вареников с капустой и чьи-то голоса. Я не сразу понял, где нахожусь. Что за голоса, откуда стряпня? Где камень, куда подевалась Тоня? Кто храпит рядом? Это Петя. А Тоня… Тоня умерла! В музейной канцелярии накрывают столы к поминкам. Женщины приносят еду. Уже семь, пора копать могилу.
4
Начинало светать, когда мы, проваливаясь по пояс в голубоватый снег, добрели до места. Небо на востоке бледнело, из-за леса ползли подсвеченные розовым клочковатые облака. На кладбище было еще темно, только кое-где, на верхушках деревьев поблескивал иней. Сильный мороз. Недалеко от ворот развели костер — несколько сухих поленьев, плеснули бензина — посыпались искры. Затем по стакану шила, да солониной закусили, чтоб копалось легче. Ледяная, густая, словно растительное масло, жидкость загорелась белым пламенем, зажгла внутренности, обострила зрение. Солонина была твердой и соленой. Мир сделался четче, люди ближе. Миша, Женя, Морозов, Мотылек…
…со всеми меня познакомила Мельница. В тот же день, вечером, после прогулки к морю она пригласила нас к себе на день рождения. Ей исполнилось сорок пять лет. У Тони было две — грязные, неприбранные — комнаты с кухней на Заозерной. За столом я увидел ее друзей: ксилографа Галинского, буддиста, ее тогдашнего сожителя, Васю, Юлиного мужа, поэта и барда, фотографа Мишу Вервальда, эстонца с Саянских гор, журналиста Дейсана, несостоявшегося монаха, поэтессу-шизофреничку Нину, философа-алкоголика Сергея Морозова, глухого историка и коммуниста Критского, соседа-рыбака Юру, педика-бухгалтера Дичкова, Женьку-кузнеца с волчьей пастью, воришку Сашу, Лешу, который промышляет водорослями, бомжа Мотылька и бича Рыжего, сифилитичку Инку, хромую Катю и еще пару незабываемых лиц, словно сошедших с… тогда, опрокинув несколько стаканов, я подумал, что, пожалуй, с полотен Босха или Мемлинга. Будто Суд, возможно Последний, или же чей-то Ад. Утром, когда рассвет просочился в кухню, разогнал мрак и обнаружил грязь и запустение — рыбьи головы, окурки вперемежку с объедками, задержавшиеся гости, — я не мог понять, в чем дело? О чем они? Среди бормотания и всхлипываний я улавливал отдельные слова — что-то о яблоневых садах. Ностальгия, что ли? Ну да, они тосковали по средней полосе, по умеренному климату… Потом Тоня рассказала мне их истории, переплетения судеб — разные сюжеты одной и той же повести; все прочее — черты лица, детали быта — можно дописать самостоятельно, пожив рядом. Сегодня большинства гостей уже нет в живых — кто-то умер своей смертью, кому-то трефное шило помогло или ближние. Юрку по пьяни спихнули с лодки, у Рыжего остановилось сердце, Сашка повесился, Катюшу зарезали, а Лешу на зоне прикончили, суки. Теперь вот и Тоня выпала из соловецкого повествования, словно из окна…
Миша хотел копать на новом кладбище, где много места и дорога протоптана. Мотылек уперся, чтобы возле ограды — самоубийца все-таки. Я напомнил, что рядом с Юлей осталось еще немного свободного места, как раз на одно тело — и забор близко, и море рядом. Так и сделали. Откинули снег, бросили тлеющие головни на промерзшую землю в тщетной надежде, что само оттает. Какое там… ломом пришлось долбить. Полметра заледеневшей, словно железобетон, корки. Мы колотили по очереди, до черных искр перед глазами, до онемения в руках. С фотографии на кресте иронически поглядывала на нас Юля. Тем временем взошло солнце — золотой сноп в молочной мгле, вертикальный столб света, словно прожектор противовоздушной обороны. Такое бывает только зимой. Лом звенел, ударяясь об лед, от нас валил пар. Наконец добрались до песка, самое трудное позади, пора перекурить. Снова шило, снова солонина с Саянских гор (гостинец от Мишиной мамы). Огонь затрещал, Женька подкинул щепок. Женя, Миша, Мотылек, Морозов…
Мельница называла Соловки людской свалкой. Как некогда ледник принес сюда камни, так потом жизнь оставляла здесь всевозможный человеческий хлам: мечтателей и дураков, поэтов, аутсайдеров и неудачников, извращенцев, мистиков, дармоедов и беглецов. Жизнь кидала их, унижала и относила все больше в сторону от главного течения, которым плыли остальные, пока они не очнулись… на этих камнях посреди Белого моря. И с изумлением обнаружили, что дальше деваться некуда, это самый край. Одни испугались, другие запили, третьи медленно сходили с ума. Мельница сочувствовала всем (может, правильнее было бы сказать — сочувствовала с каждым?) так глубоко, что стиралась граница между чужой болью и собственной. Она идентифицировала себя с героями своих повестей. Да-да, повестей, потому что Тоня рассказывала о соловчанах и прозой, и стихами. Не замечая при этом, что и собственная жизнь превращается в роман — роман, фабула которого вывернулась у нее из-под пера. Поселившись на Островах, я смог увидеть продолжение Тониной истории, начатой тогда, в первый день, на морском берегу. Она не раз приходила к нам, чувствуя, по ее собственным словам, родственную душу, — то с бутылкой, то уже поддатая, — плакала, закручивала сюжеты, а случалось — и выла. То новый мужик и любовные перипетии, скандалы да подбитый глаз, то угрызения совести, что сыновей загубила — Леша давно сгинул, уж менты разыскивали, а младший, Саша, на зоне для малолеток за воровство. С газетой тоже проблемы, жмутся, гады, лавэ не дают. Все более опухавшая, опускавшаяся, вульгарная. Начала избегать людей, особенно «порядочных» — от стыда ли, с белой ли горячки? — предпочитая общество бомжей, дегенератов, алкашей. Летом убегала на рыбацкие тони, с бичами гуляла, глушила шило, зимой жила где попало, то у Инки, то у Кати в «Шанхае», и стихи выхаркивала из себя, словно желчь…