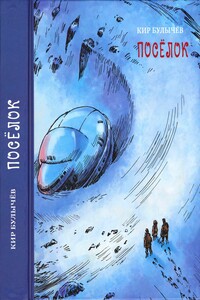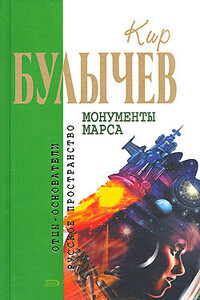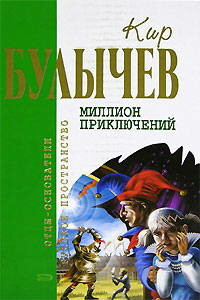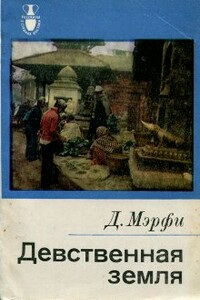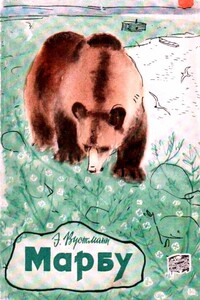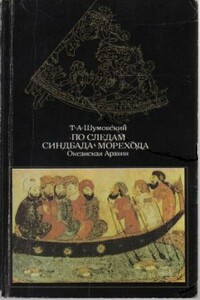— Нет, нет,— сказал Инюшкин вдруг, оглядываясь вокруг себя,— нам здесь не дадут уединиться. Пойдем-ка откроем кабинет, хозяин его сейчас в Арктике.
В пустующем с самого начала лета кабинете было ощущение, будто мы с Николаем Федоровичем только что находились на открытом мостике, вошли в ходовую рубку, плотно затворили за собой дверь и после рева моря от тишины почувствовали некоторую глухоту. Только от шквалистого ветра на дворе немного звенела оконная рама.
Мы сели на стулья, выставленные у стены для посетителей. Сели рядом, лицами к пустому длинному столу.
Мне очень хотелось, чтобы разговор начал Николай Федорович. Мой вопрос мог только ограничить его рассуждения. Но он молчал. И вдруг, не знаю почему, мне захотелось вывести его из равновесия.
— Николай Федорович,— спросил я, выждав немалую паузу, совсем не о том, с чего хотел бы, чтобы разговор наш начался.— Николай Федорович, вот теперь, когда блестяще завершена спасательная экспедиция, говорят, что рейс ледокола «Владивосток» показал: мы способны плавать зимой в самом тяжелейшем в мире Тихоокеанском ледяном массиве.
— Мне кажется, этим козырять нельзя! — блеснул он глазами в мою сторону.— В Антарктиду надо своевременно входить. И так же своевременно убираться оттуда,— продолжая горячиться, Николай Федорович мысленно переносил разговор с «Владивостока» на научно-экспедиционное судно «Сомов».— На «Лене» в 1955 году мы пошли из Калининграда в декабре, причем до нас советские моряки еще не были в Антарктиде. Нам надо было выгрузиться, построить обсерваторию — станцию «Мирный»... Подождите,— сказал он,— надо тут вспомнить...
Инюшкин прикрыл глаза. Сквозь очки можно было разглядеть лишь едва видимую щелочку.
— В том году туда ходил капитан Ман на «Оби»,— подсказал я.
— Да, верно. Я и думаю, когда же они ушли из Антарктиды? — тут же отозвался он.— Мы задержались до середины марта, а «Обь» уже ушла. К тому времени ушли и экспедиции других стран... Австралийцы лучше всех знали обстановку там и предупреждали нас: «Именем бога просим, уходите, иначе будет поздно...» Помню, нами была получена радиограмма от Филиппа Лоу, руководителя антарктического департамента. А мы не могли уходить, строили жилье, склады... Отходили от материка уже шестнадцатого или семнадцатого марта.
Николай Федорович замолчал, а потом, повернувшись ко мне, спокойно заключил:
— Это поздновато. Но ушли. Может, район попался полегче или судно новое было...
— А «Михаил Сомов» задержался до антарктической зимы,— произнес я вслух готовый вывод моего собеседника.
— И от этого ничего хорошего нельзя было ждать,— вспыхнул он опять. Но, секунду помолчав, Николай Федорович спокойно добавил: — Не знаю... Но чем бы ни была вызвана задержка судна, перед капитаном Родченко встало два решения: или он должен был уносить ноги и оставить станцию Русская без снабжения, или в этой неожиданно изменившейся обстановке идти и выгружаться. Он выбрал второе...
Николай Федорович постепенно оттаял, и разговор принял характер воспоминаний, как если бы встретились два сошедших уже на берег моряка.
Думая, что могло статься с «Сомовым», мы вспомнили, точнее, Инюшкин заговорил о тяжелейшей в проливе Лонга ледовой обстановке в октябре 1983 года.
Наступали холода, навигация заканчивалась, а план грузоперевозок в порты Певек, Зеленый Мыс... находился под угрозой срыва. Не нужно объяснять, что это значит для людей, живущих и работающих на всем привозном. На восточной кромке сплоченных льдов в Чукотском море скопилось тогда несколько десятков судов с грузами. И вот прогнозируется образование прибрежной полыньи, точнее, между морским дрейфующим льдом и припаем. Времени по прогнозу достаточно, чтобы пробежать до Певека. И суда двинулись... Но ветры от юга и юго-востока неожиданно сменились на северные, и полынья закрылась, захлопнув в ледовой ловушке караван судов. Хуже всего пришлось тем судам, которые оказались ближе к припаю... В сильной подвижке льды ломались, смерзались, превращались в монолит и грозили прижать суда к неподвижному припаю. И не только грозили, но и раздавили у косы Двух Пилотов сухогруз «Нина Сагайдак».