Крускоп жил на четвертом этаже старого дома. Деревянная спиральная лестница была узкой, крутой, со стоптанными ступеньками. Даже с помощью Липста Крускоп еле-еле, с трудом взбирался наверх. В его груди опять шипело и клокотало. На каждом этаже приходилось подолгу отдыхать.
На верхней площадке было три двери. Крускоп позвонил в среднюю. Вышла сгорбленная старушка. Она сразу все поняла, испуганно всплеснула руками и тихонько ахнула:
— Боже ты мой! Так я и знала! Я всегда говорила — не расхаживай ты один, не дойдешь до дому!
— Помалкивай, и без тебя тошно, — проворчал «аптекарь».
— Видите, вот всегда он такой, — старушка изучала Липста слезящимися глазами. — Разве он когда послушает? Больной человек, а бегает с утра до вечера то за водой на нижний этаж, то за дровами…
— Полно болтать, слышишь, — проговорил Крускоп через силу.
— А чего тебе было одному в город тащиться?
— Надо было. Не надо — не пошел бы.
По темному коридору они прошли в комнату. «Аптекарь» присел на краешек кровати. Старушка, не переставая охать, сняла с него пиджак, разула, расстегнула сорочку.
Кроме кровати, в комнате еще шкаф, стол и несколько плюшевых стульев. Посредине стола старинный будильник. Этот громкий учетчик времени, по-видимому, был сердцем дома.
На стене две фотографии в самодельных деревянных рамках. Одна, уже изрядно пожелтевшая, запечатлела мастерскую с несколькими верстаками. На переднем плане — группа гордо улыбающихся мужчин. Усатый молодой человек с пышной волнистой шевелюрой смахивает на Крускопа. На уголке надпись тушью: «Велосипедный завод Эренгельда. 1922 год». Второй снимок совсем новый. Он мог быть сделан незадолго перед уходом Крускопа на пенсию. Старый мастер с серьезным выражением лица стоит посреди сборочного на фоне конвейера.
Больше на стенах ничего не было. Не было даже традиционных свадебных портретов. Только две эти фотографии. Два моментальных снимка. Но в них вся жизнь Крускопа.
— Спасибо, Тилцен, — посмотрел на него «аптекарь». — Благодарю тебя. Как дела на заводе?
— Хорошо, мастер. Скоро начнем выпускать мопеды.
— Если тебе надо идти, иди. Я тебя не задерживаю… Кто теперь на моем месте?
— Шмидре из материального склада.
— Почему не Робис?
— Робис будет мастером мопедного цеха. Сегодня уехал в Харьков учиться.
Крускопу стало хуже, он дышал с трудом.
— Это все потому, что по лестнице бегом бегаешь. Вверх-вниз, вверх-вниз, — сокрушенно укоряла старушка.
— Я мимоходом зайду как-нибудь, — сказал Липст. — Вам нельзя дрова пилить.
— Насчет этого не беспокойся.
— У вас лестница очень плохая. Крутая и узкая.
— Да, лестница паршивая, — Крускоп смотрел остановившимся взором в потолок.
Липст вышел на улицу, полную кипучей жизни и движения, с минуту постоял, затем двинулся к центру. В ушах еще не смолк глухой гул, которым отзывалась узкая деревянная лестница на его шаги. О Юдите Липст вспомнил только у следующего квартала. Он взглянул на часы: пять минут девятого. «Поздно!»
«Я все расскажу Юдите, и она поймет, — думал он. — Встретимся с ней завтра или послезавтра. У нас ведь еще столько времени… Удивительная эта штука — время!» Тем не менее он прибавил шагу, питая слабую надежду на то, что Юдите еще ждет его.
«Может, еще не поздно. Пробегу мостик через канал и увижу ее». Липст даже не заметил, как с шага перешел на бег. Над перекрестком горел красный огонь. Липст бросился через улицу, ловко лавируя среди мчавшихся машин.
Ее не было. Липст остановился. Без Юдите оживленная троллейбусная остановка казалась мертвой пустыней.
«Может, она не успела уйти далеко. — Липст пробежал до конца бульвара. Юдите не было. — Ну, конечно… Уже половина девятого. Позвонить? Еще не успела прийти домой. Надо попозже».
Через полчаса Липст дважды пробовал дозвониться к Юдите. Никто не отвечал. Она еще не вернулась.
С тяжелым сердцем Липст поехал домой.
Липст не успел войти в дверь, как его поймала за рукав мадемуазель Элерт.
— Ах, боже! Если бы вы, милый Липст, знали, что здесь только что происходило! Если бы вы знали! — от волнения ее гиппопотамий зоб трясся, а коричневые глазки косили и стреляли по сторонам. — Эта персона хотела вывалить на меня кипящую кашу. Я вхожу на кухню, ставлю на конфорку кастрюлю, и что вы думаете? Она снимает ее! «Не прикасайтесь к моей посуде! — говорю я ей. — Вы, к кому по ночам стоит целая очередь мужчин». Больше я ничего не сказала, но эта некультурная извозчица — если бы вы только слышали, какой она крик подняла!

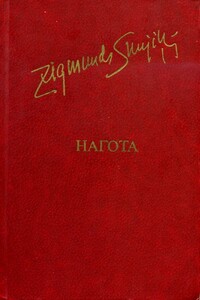
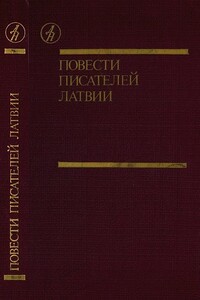



![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)
