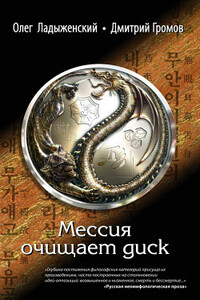— Гость дарован Зевсом, — напомнил Фиест. — Впустишь?
— Корзину возьми. Зря, что ли, тащил?
— Я ее не тащил. Она тут уже стояла, когда я подошел…
Врет, решил Амфитрион. Смущается.
В дом Фиест не пошел. Оставив корзину на пороге, он без видимой цели побродил по двору, остановился у портика, пристроенного между кухней и мегароном; колупнул ногтем краску, превращавшую буковые колонны в мрамор. Чувствовалось, что юноша взволнован и не знает, как начать.
— Беги из Микен, — сказал Фиест. — Чего ждешь?
— Суда, — вздохнул Амфитрион.
— Если бы я ждал суда, я бы уже давно гнил в земле. Ты убил дядю, мы — брата. Мне будет жаль, если они наградят тебя чашей с цикутой. Или ты — бог? Тебе яд слаще амброзии?!
«Сознался, — отметил Амфитрион. — Подтвердил, что зарезал брата. Проговорился? Или просто доверяет мне?» Мелькнула мысль, что Фиест мог убедить себя в убийстве брата, как сам Амфитрион убедил себя…
Трепеща крылышками, мысль сгорела на лету.
— Нас очистили, — продолжал Фиест. — Мы чужие, мы полезны. Мы ничем не знамениты, и значит, не опасны. Тебя здесь не очистят. Верь мне, я знаю. Побоятся. Ты свой, ты известен, и потому опасен. Они думают, ты метишь на тронос. Тебя не очистят нигде на Пелопоннесе. Ты — это война. Дай тебе приют Элида или Аркадия, и все решат, что там пригрели будущего правителя Микен. Ты — повод для вторжения. Такие долго не живут. Беги в Додону, Иолк, на Эвбею. Как можно дальше.
Прямота его подкупала.
— Вдали от Микен тебя примут с почетом. Ты знатен, молод; прославился в сражениях. Ты — внук Персея…
«…и внук Пелопса,» — молча добавил Амфитрион.
— В меня стреляли, — сказал он вслух. — Вчера.
— Вот-вот. Значит, я прав. Беги, не оглядываясь. Любой басилей сочтет за честь отдать войско под твое начало. Сюда не возвращайся. Так будет лучше. Хочешь, я стану слать тебе гонцов с вестями? Ты только сообщи, где остановился…
— Почему ты беспокоишься обо мне?
— Почему? — лицо Фиеста вспыхнуло, словно от пощечины. — Я гостил в твоем доме. Пил твое вино и ел твой хлеб. Этого мало? Хорошо, добавлю еще. Мы…
Он шагнул к Амфитриону вплотную:
— Мы, Пелопиды, своих не бросаем.
И вылетел за ворота.
Присев на скамейку, Амфитрион достал из корзины круг овечьего сыра. Отломил ноздреватый, слезящийся кусок. Сжал в кулаке: на колени пролилась сыворотка. «Мы, Пелопиды…» Эхо сказанного Фиестом бродило в мозгу, странным образом превращаясь в «Мы, Проклятые…» Вот я и не Персеид, вздохнул он. Как убивать, так еще куда ни шло, как судить — ладно; а как мне сочувствовать — нет, уже не Персеид…
Босая ступня нащупала что-то твердое. Наклонившись, он поднял наконечник стрелы. Медный, сплющенный молотом лист с дерева войны. Размахнувшись, Амфитрион зашвырнул наконечник к забору.
— Лети, — шепнул он. — Лети, не оглядываясь.
Наконечник валялся в пыли. Даже с древком и оперением, сорвавшись с натянутой тетивы, он улетел недалеко: с чужой крыши — сюда, во двор. Кусок металла покорно ждал своей участи. Оставят гнить на земле, отдадут кузнецу в перековку — все равно.
— Что ж, пусть так…
Сын Алкея знал, что никуда не побежит.
Ладья с трудом вошла в узкую горловину бухты. Парус сняли еще в открытом море; спустили и мачту, уложив ее вдоль правого борта. Предвкушая скорый отдых, гребцы дружно орудовали веслами. Брызги срывались с лопастей, сверкнув горстью серебра, и дождем осыпались в пену волн. С берега ладья походила на колыбель младенца-гиганта. Нос и корма, задранные вверх, так и просили, чтобы кто-нибудь прикрепил к ним золотые цепи — и подвесил между небом и землей. Даже расшалившись, дитя не вывалилось бы — заботливые родители нарастили борта решеткой из толстых прутьев, обтянув их воловьей кожей. На обшивку пустили липу-старуху, на киль — скальный дуб; «ребра» — черная акация…
— Эвбейцы, — безошибочно определил Птерелай. — Они что, сошли с ума?
Мелкий купец с грузом дешевых амфор, внаглую пристающий к Тафосу, гнезду пиратов — крылась в этом ирония судьбы, заслуживающая уважения. В душе Птерелай пообещал храбрецам-эвбейцам, что уйдут они с миром, как пришли. Захотят расторговаться — дадим хорошую цену. Он уже собрался, отдав необходимые распоряжения, покинуть берег, когда внимание Крыла Народа привлекли двое на корме, возле рулевого весла. Здоровенный детина, подстать самому Птерелаю, и мальчишка в льняном панцире, с изуродованным лицом. Хозяин ладьи с сыном? Чувствуя, как в сердце закипает недавний шторм, Птерелай вошел в воду по колено, из-под ладони разглядывая гостей. Детина с хохотом что-то рассказывал кормчему, помогая себе жестами; мальчишка, вцепившись в края щита, укрепленного на борту, пожирал глазами тафийского вождя. Кровоподтеки, ссадины на лбу; нос, кажется, сломан. Губы запеклись, вздулись перезрелой, треснувшей смоквой. «Кто тебя избил? — без особого сочувствия размышлял Птерелай. — Ты раб? Пытался сбежать? Вряд ли — у раба отобрали бы панцирь…» В чертах мальчишки, искаженных волнением, исковерканных насилием, читался вызов. Если бы не этот вызов, не знакомая дерзость на грани отчаяния…