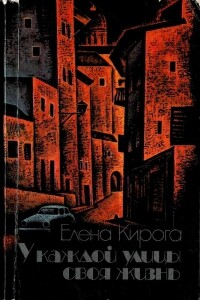Я уехал в Варанаси, потому что меня ничто не держало в Лондоне, и оставался тут по той же причине — возвращаться домой было незачем.
Даррелл шел на занятия по йоге. Я решил пройтись с ним до Ниранджани-гхата, где сидел дружелюбный святой, которого я приметил в день конфликта в банке. Он сидел на том же самом месте, прячась в тени грибовидного зонтика, и глядел на реку.
— Я пойду поговорю с тем философом, — сказал я Дарреллу, который поспешил дальше.
«Поговорю» — это сильно сказано. Святой не знал ни слова по-английски, и я дал ему пятьдесят рупий, просто чтобы посидеть рядом и посмотреть ему в глаза. Он с готовностью согласился. Мы сидели в тени скрестив ноги и глядели друг на друга. Его лицо обрамляла кирпично-красная рамка стены за его спиной — почти такого же оттенка, что и тилак[169] у него на лбу, как будто у него в голове была сквозная дырка. Сперва я чувствовал себя немного не в своей тарелке, но вскоре это прошло, и я стал просто спокойно смотреть в его добрые карие глаза. Он тоже сидел и смотрел на меня. Это было не похоже на детскую игру в гляделки — хотя его способность не моргать была почти сверхъестественной. В этом не было ни малейшей агрессии. Мы просто смотрели. Он смотрел так, словно ничего перед собой не видел. Я тоже старался ни о чем не думать, а просто смотреть. Не знаю, чего я хотел, что ожидал увидеть — потому-то я и смотрел, чтобы понять, чего я ищу. Чего я не увидел, так это какого бы то ни было родства. Он пребывал в своем мире, а я — в своем. Моя картина мира никогда не станет его, и наоборот. И это было единственное, что нас объединяло. Разнило же нас его полное отсутствие интереса к моей картине мира — она для него ровным счетом ничего не значила, тогда как я к его питал живейший интерес. Как бы я ощущал себя будучи им? Хотел бы я поменяться с ним местами, хотя бы ненадолго. Приглядевшись, я мог видеть собственное отражение в его расширенных зрачках, словно я жил там в виде крошечного гомункулуса. Я сосредоточился на этом маленьком личике, и через некоторое время оно заполонило собой все, так что вместо лица святого мужа я уже созерцал свое собственное, уставившееся на меня, словно из зеркала. Можно было воспринимать это так. Или предположить, что я сейчас видел то же, что и он, и что, вопреки моей первоначальной мысли между тем, как я видел его и как он видел меня, не было особой разницы. Он видел то же, что и я: мужчину сорока с лишним лет с седыми волосами, худым лицом и угрюмо сжатыми губами. Лицо это не было злым, но в нем присутствовала некая жесткость, которую я замечал и у других путешественников этого возраста. Не было оно и глупым — это тоже было ясно, но уж если речь зашла о ясности, то, когда выходишь за пределы узкого понимания интеллектуальности, ее избыток или недостаток быстро перестает иметь какой-то смысл. Лицо перед моими глазами — мое лицо — было чем-то наполнено и трепетало изнутри, как налитый до краев стакан, как вечно дрожащие уиппеты[170]. Не из страха, нет, а просто потому, что оно было живым. Дрожащие уиппеты и мое дрожащее как полный стакан лицо — мы были похожи. Чем же оно было наполнено, это лицо, которое каким-то чудом было моим? Я стал всматриваться еще пристальнее, тщась увидеть, понять, и, копируя мои усилия, лицо в зеркале стало напряженно-внимательным. Теперь я видел, что оно было полно стремления и желания, в данном случае — желания знать, но с таким же успехом это могло быть желание шоколада или секса. В этом состояла фундаментальная разница между мной и моим новым другом, святым человеком. Его лицо было свободно от желаний. Как он к этому пришел? Что для этого сделал? Может, он с самого начала был таким? Едва ли. Скорее он достиг этого состояния немалым трудом: посредством медитации, йоги, усердного курения травы или чего-то подобного. И это было отличное состояние, достойная цель. Но чтобы сама мысль об отсутствии желаний пустила корни, чтобы пойти по этой дороге и попробовать освободиться от желания, нужно сперва ощутить в себе это желание, тягу, стремление. И как же потом это желание превосходит само себя? Пока я обо всем этом думал, фокус моего внимания, нацеленный на зрачок моего друга, сам собой расширился. Камера отъехала, и мое лицо, только что занимавшее весь экран, крупным планом, отдалилось, снова стало отдельной деталью в общем пейзаже его лица. Я увидел его глаза и волосы,