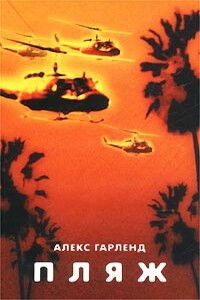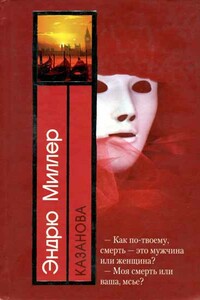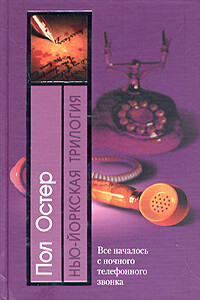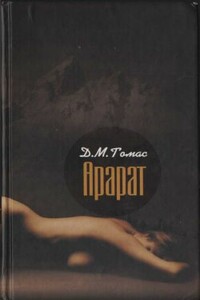Вкушая Павлову - страница 9
Я говорю о том, как трудно найти тихую гавань среди высоких, неприступных белых утесов. Когда моря дыбятся волнами.
— Но вам это удастся. Вы, Фрейд, всегда были конквистадором! — говорит мрачный Ньютон.
— Да, — вздыхаю я.
Неуклюже прихрамывая, Моника приносит нам чай. Мы сидим развалясь, причем Лу совершенно голая, как на знаменитой картине Мане. Чувствует она себя совершенно свободно.
Мое только что бодрое настроение быстро улетучивается, меня клонит в сон, мне снится боль, снится, что Паула и Эрнст несут меня в дом. Имя Паулы вызывает ассоциацию с Павлом, евреем-отступником, а при имени Эрнст в памяти всплывает мой добрый учитель Брюкке. Мост между двумя мирами.>{22}
Я балансирую на грани пробуждения и то ли во сне, то ли наяву читаю газетные заметки, колеблющиеся между здравым смыслом и полным бредом. Вот один из примеров: «Общий интерес к промышленности мясоперевозок связывает Муссолини и миссис Вирджинию Вулф».
Помню, как меня навещали супруги Вулфы. Он — с лицом, ухоженным, как английский садик, она — с лицом страдающей от запора лошади.
Когда я делаю над собой усилие и преодолеваю грань между сном и явью, я вижу Анну, которая устраивает меня поудобнее.
— Софи заходила — посмотреть, как ты тут, — говорит она.
Меня переполняет смутная радость:
— Софи!
Она так сияла в день своей свадьбы, хотя и покидала нас.
Анна кивает:
— Она будет очень симпатичной девушкой. Такая была кроха — а теперь все больше похожа на Мартина.
— Ах да, Софи! — Дочь Мартина.
По отношению к живым до сих пор остается легкое чувство обиды — как бы за Софи и за Хейнеле, ее дорогого сыночка.
Завтраки в лесах — так Матильда и Анна пытались отвлечь его от мыслей об умершей мамочке… «Завтрак на траве». А может, это был Ренуар. Не помню; но на эту выставку я ходил с семейством Шарко>{23}. Жан-Мартен: «Mon cher, эти так называемые художники безумнее, чем наши пациенты!» Его ясные, смеющиеся глаза. Рука на моем плече.
Жизнь блистательно открыта передо мной. Еще нет никакой Софи, даже во снах; Хейнеле тоже нет — того, что играет с цветами или, закрыв глаза, лежит мертвый.
глава 4
Я был обязан прийти на похороны мамы. Болезнь — не оправдание.
Как хочется сигару.
Я не скорблю о людях, с которыми вместе курил; например, о Федерне, застрелившемся на своем рабочем месте психоаналитика, или о Зильберере, повесившемся за окном под лучом прожектора>{24}, чтобы жена, вернувшись домой, могла сразу его заметить. Куда больше я скорбел об отсутствии сигар. И эта скорбь никогда не кончается. Можно сказать, что смерть нужна для того, чтобы избавиться от пагубных привычек.
Меня разберут на сомнительные воспоминания и анекдоты и лишь потом — на биографии. Будут говорить об Амалии, Марте и Анне, не зная, что это одна и та же женщина; женщина, называвшая себя также Елизаветой, Ирмой, Градивой и Лу, Еленой и Психеей. Воистину, имя ей — легион. Эта женщина, самая важная женщина моей жизни, или даже сама моя жизнь, не будет упомянута биографами. Возможно, потому, что она была проституткой. Die Freude означает «проститутки», и вся моя жизнь была с ними связана. Совсем не случайно, посещая какой-нибудь новый город, я инстинктивно направлял свои стопы в квартал красных фонарей.
Я все еще испытываю смутное чувство вины за то, что, устремясь в чрево матери, опередил миллионы других Фрейдов, которым повезло меньше, чем мне. Но я ни о чем не жалею: я должен был прийти первым. Неужели я преодолел весь этот невообразимый путь из Палестины в Мюнхен, в Галицию, в Моравию лишь для того, чтобы потерпеть поражение на этом этапе? Нет, немыслимо.
Это случилось в одну из первых ночей после свадьбы моих родителей.
С самого начала — борьба не на жизнь, а на смерть. А потом — тот уютный дом, ощущение прибытия, внедрения в мягкое женское гнездо. И это тоже я: встречающая меня яйцеклетка!
«Войди в меня!» — кричит яйцеклетка. «Держи меня!» — кричит сперматозоид.
Я уже говорил, что все мы жили в одной комнате. Я, Якоб, Амалия, Ребекка, Филипп, Эмануил, его жена Мария, Йон, Полина и Юлий — пока он благополучно не помер — а еще ненавистная мне сестра Анна; и Моника. На дергающейся кинопленке памяти все это кажется одной огромной переполненной постелью. Неподалеку был пологий луг, усеянный желтенькими цветочками и застроенный маленькими домами. Устроившись в надежных руках Амалии, я смотрел на него из окна второго этажа. Не думаю, что видел колокольню католической церкви, стоявшей на широкой площади. Только чащи, только лес. Всегда лес.