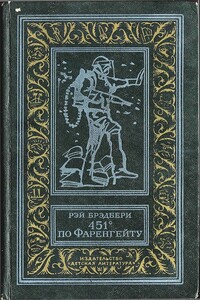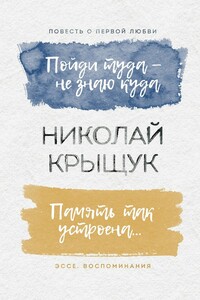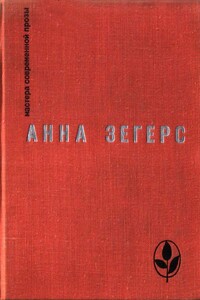– Нет!
Полковник Фрилей спешно открыл глаза, выпрямился в своем кресле-каталке. Выбросил свою холодную руку, чтобы нащупать телефон. Он все еще на месте! И прижал его к груди, моргая.
– Не нравится мне этот сон, – обратился он к своей пустой комнате.
Наконец дрожащими пальцами он поднял трубку, вызвал телефонистку междугородной связи, назвал номер и стал ждать, глядя на дверь, словно в любое мгновение рой сыновей, дочерей, внуков, сиделок и докторов мог ворваться и отобрать у него последнюю роскошь в жизни, которую он позволял своим угасающим чувствам. Много дней (или лет?) назад, когда его сердце вонзалось в ребра и плоть, как кинжал, он слышал голоса мальчишек внизу… как же их звали? Чарльз, Чарли, Чак, да! И Дуглас! И Том! Он вспомнил! Они выкликали его имя внизу в коридоре, но дверь перед ними оказалась заперта, и мальчики повернули назад. «Вам нельзя волноваться», – говорил врач. Никаких посетителей. Никаких, никаких, никаких. И он услышал, как мальчики переходят улицу. И увидел. Помахал рукой. А они помахали ему в ответ. «Полковник… полковник». И вот он сидит в одиночестве с крохотной серой жабой, именуемой сердцем, которое время от времени еле трепыхается то тут, то там в его груди.
– Полковник Фрилей, – сказала телефонистка. – Ваш заказ: Мехико-Сити, Эриксон 3899.
И вот далекий, но бесконечно чистый голос:
– Bueno.
– Хорхе! – вскричал старик.
– Синьор Фрилей! Опять вы? Это же стоит больших денег!
– Ну и пусть! Ты знаешь, что делать.
– Si. Окно?
– Окно, Хорхе, если тебя не затруднит.
– Минуточку, – произнес голос.
И за тысячи миль, из южных краев, из конторского здания, донесся звук шагов, удаляющихся от телефона. Старик подался вперед, прижимая трубку к сморщенному уху, которое заболело в ожидании новых звуков. Поднятие окна.
– Ах, – вздохнул старик.
Звуки Мехико-Сити знойным желтым полднем в распахнутом окне в ожидающей телефонной трубке. Он представил Хорхе, стоящего с трубкой, простертой наружу, навстречу сияющему дню.
– Синьор…
– Прошу, не надо. Дай послушать.
Он слушал гудки множества железных клаксонов, скрежет тормозов, выкрики уличных торговцев, продающих со своих лотков пурпурно-красные бананы и апельсины. Полковник Фрилей начал перебирать ногами, свешенными с кресла, изображая ходьбу. Он зажмурился. С неимоверной силой втянул воздух в ноздри, как бы пытаясь обонять запахи туш на стальных крюках под солнцем, облепленных мухами, словно оболочкой из изюма, запахи каменных переулков, орошенных утренним дождем. Он ощущал солнечный ожог на щетинистой щеке, и ему снова было двадцать пять. Он ходил, разгуливал, смотрел, улыбался, радовался жизни, ушки на макушке, упиваясь красками и запахами.
Стук в дверь. Он поспешно запрятал телефон под полу халата.
Вошла медсестра.
– Привет, – сказала она. – Хорошо себя ведете?
– Да, – раздался механический голос старика.
Он почти ослеп. Потрясение от обыкновенного стука в дверь так на него подействовало, что его мысли все еще витали далеко, в другом городе. Он дождался, пока его мысли вернутся домой. Это обязательно, для того чтобы он был способен отвечать на вопросы, вести себя разумно и вежливо.
– Вот, пришла измерить ваш пульс.
– Не сейчас! – сказал старик.
– Вы куда-то собрались? – улыбнулась она.
Он пристально посмотрел на медсестру. Целых десять лет он нигде не бывал.
– Вашу руку.
Ее жесткие сноровистые пальцы, словно ножки циркуля, прощупали пульс в поисках изъяна.
– Чем вы так взволнованы? – потребовала она объяснений.
– Ничем.
Ее блуждающий взгляд остановился на пустом телефонном столике. И надо же было так случиться, что как раз в этот момент за две тысячи миль отсюда еле слышно протрубил клаксон.
Она извлекла телефонную трубку из-под халата полковника и поднесла к его лицу.
– Зачем вы творите это с собой? Вы же обещали, что не будете этого делать. Вы только себе вредите, разве нет? Взвинчиваетесь, слишком много говорите. Мальчишки скачут…
– Они сидят себе тихонько и слушают, – сказал полковник. – И я рассказывал им такие вещи, о которых они в жизни не слыхивали. Я рассказывал им о буйволах и бизонах. Это стоило того. И меня это не волновало. Я был окрылен и полон жизни. И не важно, погубит меня полнота жизни или нет. Лучше испытывать мгновенные вспышки вдохновения каждый раз. А теперь верните мне телефон. Раз уж вы не разрешаете мальчикам приходить и вежливо сидеть, то я хотя бы смогу говорить с кем-нибудь во внешнем мире.