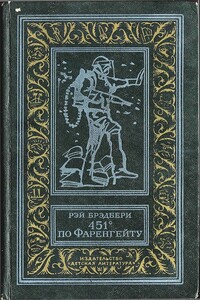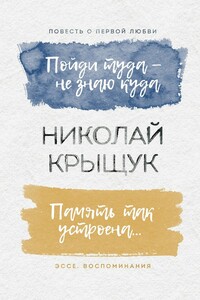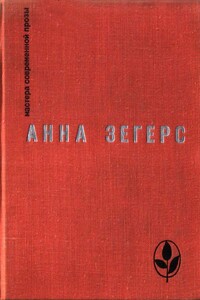Старик сидел на полу.
Время шло.
Внизу медленно отворилась дверь. Легкие шаги вошли в нерешительности, затем стали подниматься по ступенькам. Забормотали голоса:
– Нам сюда нельзя!
– Он звонил мне, говорю же тебе. Ему очень нужны посетители. Мы не можем его бросить.
– Он же болен!
– Конечно! Но он сказал, чтобы мы его навещали, когда медсестры нет. Мы побудем минуточку, поздороваемся и…
Дверь спальни распахнулась. Трое мальчиков стояли и смотрели на старика, сидящего на полу.
– Полковник Фрилей? – тихо сказал Дуглас.
В его безмолвии было нечто, заставившее их замолчать.
Они приблизились, почти на цыпочках.
Дуглас склонился, высвободил телефон из похолодевших пальцев старика. Дуглас прижал трубку к своему уху и прислушался. Сквозь треск помех он расслышал странный, далекий прощальный звук.
За две тысячи миль захлопнули окно.
* * *
– Бум! – сказал Том. – Бум! Бум! Бум!
Он оседлал пушку времен Гражданской войны на площади перед зданием суда. Стоявший перед орудием Дуглас схватился за сердце и рухнул в траву, но не поднялся, а остался лежать с задумчивым выражением на лице.
– Похоже, ты готов в любой момент достать свой старый карандаш, – сказал Том.
– Дай-ка подумать! – сказал Дуглас, глядя на пушку.
Он перевернулся на спину, разглядывая небо и деревья над головой.
– Том, меня только сейчас осенило.
– Что?
– Вчера умер Чэн Ляньсу. Вчера прямо здесь, в нашем городе, раз и навсегда закончилась Гражданская война. Вчера прямо здесь умерли мистер Линкольн, генерал Ли и генерал Грант, и еще сто тысяч других, сражавшихся за Север и за Юг. Вчера днем в доме полковника Фрилея целое стадо бизонов величиной с Гринтаун, штат Иллинойс, сорвалось с утеса в тартарары. Вчера навсегда осела огромная туча пыли. А я в тот момент даже не осознал всего этого. Это ужасно, Том, ужасно! Как же мы теперь проживем без этих солдат, генералов Ли и Гранта, без Правдивого Авраама и без Чэн Ляньсу? Мне никогда в голову не приходило, что столько людей могут погибнуть так молниеносно, Том. Но это произошло. И не понарошку!
Том верхом на пушке глядел на неумолкающего брата.
– Блокнот с собой?
Дуглас покачал головой.
– Лучше отправляйся домой и все запиши, пока не забыл. Не каждый день половина населения земли отбрасывает копыта.
Дуглас поднялся и сел, потом встал на ноги. Он медленно зашагал по лужайке перед зданием суда, покусывая нижнюю губу.
– Бум, – тихо сказал Том. – Бум! Бум!
Потом – громче:
– Дуг! Я убил тебя три раза, пока ты шел по лужайке! Дуг, ты слышишь? Эй, Дуг! Ладно. С тебя хватит.
Он лег на ствол пушки и нацелился. Прищурился.
– Бум! – прошептал он растворяющемуся силуэту. – Бум!
– Готово!
– Двадцать девять!
– Готово!
– Тридцать!
– Готово!
– Тридцать один!
Рычаг опускался. Жестяные крышки, сплющиваясь на жерлах залитых бутылок, искрились сочной желтизной. Дедушка вручил Дугласу последнюю бутылку.
– Второй урожай за лето. Июньский уже расставлен по полкам. А это – июльский. И август не за горами.
Дуглас поднял бутылку теплого вина из одуванчиков, но на полку не поставил. Он заметил другие томящиеся в ожидании пронумерованные бутылки, похожие одна на другую, сияющие, обыкновенные, самодостаточные.
«Вот день, когда я открыл, что живу, – думал он, – а почему бутылка не ярче остальных?»
Вот день, когда Джон Хафф канул в небытие с края света, так почему же бутылка не темнее остальных?
Где, где, скажите, все летние собачки, прыгающие, как дельфины, в волнах пшеницы, заплетаемых и расплетаемых ветром? Где запах молний от Зеленой машины или трамвая? Запомнило ли их вино? Нет. Во всяком случае, так кажется.
В какой-то книге сказано, что все когда-либо прозвучавшие разговоры, все спетые песни еще живы, ушли в космос, и если бы можно было полететь на Альфу Центавра, то можно было бы услышать говорящего во сне Джорджа Вашингтона, застигнутого врасплох Цезаря с ножом в спине. Со звуками понятно. А со светом? Все, однажды увиденное, не умирает. Такого просто не может быть. Значит, рыская по вселенной, можно набрести на краски и виды нашего мира любой эпохи в несметных сочащихся сотах, где светом служил янтарный сок, хранимый пчелами, сжигающими пыльцу, или в тридцати тысячах линз на голове полуденной стрекозы, усыпанной самоцветами. Или капнуть вина из одуванчиков под микроскоп, и, может, целый мир праздничных фейерверков выплеснется везувием огня. В это ему придется поверить.