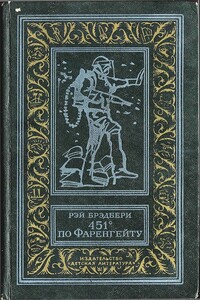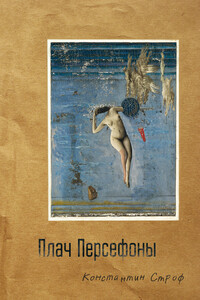О, какое наслаждение возлежать в травянистой папоротниковой ночи шелестящих, убаюкивающих голосов, сплетающих тьму. Дуглас приникал к земле так тихо и неподвижно, что взрослые забывали о его присутствии и строили планы на его и свое будущее. Голоса звучали нараспев, плыли в клубах сигаретного дыма, пронизанных лунным светом, как оживший запоздалый яблоневый цвет, как мотыльки, постукивающие в уличные фонари, и продолжали звучать, уходя в грядущие годы.
Перед табачным магазином в тот вечер собрались люди, чтобы жечь дирижабли, топить линкоры, взрывать динамит и отведать своим фарфоровым ртом бактерий, которые в один прекрасный день их прикончат. Смертоносные тучи, что маячили в их сигарном дыму, обволакивали сумрачный силуэт некоего взвинченного человека, который прислушивался к лязгу совков и лопат и настроениям вроде «прах к праху, пепел к пеплу»[7]. Этот силуэт принадлежал городскому ювелиру Лео Ауфману, который, расширив водянистые темные глаза, наконец всплеснул своими детскими руками и исторг возглас отчаяния:
– Довольно! Ради всего святого, вылезайте из этого кладбища!
– Лео, как же вы правы, – сказал дедушка Сполдинг, вышедший на вечернюю прогулку с внуками Дугласом и Томом. – Но знаете, Лео, только вы способны заставить замолчать этих провозвестников конца света. Придумайте что-нибудь этакое, что сделает будущее светлым, гармоничным, бесконечно радостным. Вы же изобретаете велосипеды, починяете игральные автоматы, работаете нашим городским киномехаником!
– Точно! – подхватил Дуглас. – Изобретите для нас машину счастья!
Все засмеялись.
– Прекратите, – перебил их Лео Ауфман. – Для чего мы до сих пор использовали машины? Чтобы причинять людям горе! Именно! Всякий раз, когда кажется, что человек и машина наконец поладят, как – ба-бах! Кто-нибудь присобачит какую-нибудь загогулину, и на́ тебе – аэропланы мечут бомбы, автомобили летят вместе с нами с утесов. Так неужели просьба мальчика неуместна? Нет! И еще раз нет!
Голос Лео Ауфмана затихал по мере того, как он шел к бордюру, чтобы погладить свой велосипед, словно живое существо.
– Что я теряю? – бормотал он. – Немного ободранной с пальцев кожи? Немного сна? Несколько фунтов металла? Справлюсь, с божьей помощью!
– Лео, – вмешался дедушка, – мы не хотели…
Но Лео Ауфман уехал, крутя педали в теплой летней ночи. До них доносился его голос:
– Я справлюсь…
– Справится, как пить дать, – восхитился Том.
Когда Лео Ауфман катил на велосипеде по кирпичным мостовым, можно было заметить, что он получает удовольствие от сломанного чертополоха в горячей траве, когда ветер дул как из печки, или от проводов, искрящих на мокрых столбах. Бессонными ночами он не страдал, а получал удовольствие от размышлений о великих вселенских часах: кончается ли в них завод или они самозаводятся. Как знать! Но, прислушиваясь по ночам, он приходил то к одному выводу, то к противоположному…
«Удары судьбы, – думал он, крутя педали, – что они из себя представляют? Рождение, взросление, старение, смерть. С первым ничего не поделаешь, а с остальными тремя?»
Колеса его Машины счастья вращались, отбрасывая снопы золотистого света на потолок. Машине суждено помочь мальчишкам сменить пушок на щетину, а девочкам превратиться из гадких утят в лебедушек. А в годы, когда твоя тень ложится на землю, когда ты прикован к постели и по ночам твое сердце бешено колотится, его изобретение поможет тебе легко уснуть под листопадом, подобно мальчишкам, которые, прыгая осенью в груды жухлых листьев, согласны стать частью тлена и смерти в этом мире…
– Папа!
Шестеро его детей: Саул, Маршалл, Иосиф, Ребекка, Руфь и Наоми, от пяти до пятнадцати лет от роду, – пробежали через лужайку за его велосипедом, и каждый коснулся его.
– Мы тебя заждались. У нас есть мороженое.
Шагая к веранде, он угадывал улыбку жены, сидящей в темноте.
Пять минут поедания миновали в уютной тишине, затем, держа полную ложку мороженого лунного оттенка, словно тайну Вселенной, которую следовало бережно познать, он спросил:
– Лина? Что бы ты сказала, если бы я взялся за изобретение Машины счастья?