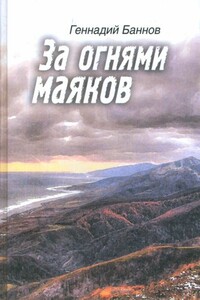В это время я снова разлил — всем, кроме Вани Беленького, который свалился на своё место за спинами и закрыл глаза. У него были короткие веки, и в щёлочки видны были мутно-белые полоски глазных белков.
— Давай их сюда! — сказал я Елене. — Сейчас мы ими и закусим. Что за свинская привычка — вермишэл и вермишэл!.. Гамлет, давай вазу!
Я выпил, не дожидаясь других, с треском и с наслаждением сломал деревянную рамку счётов и выложил костяшки в вазу.
Понимая какой-то своей частью, словно отодвинутой за ненадобностью куда-то далеко-далеко (но всё же не настолько, чтобы оттуда не доносился слабый голосок), понимая, что не стоит делать этого при Лизе, но уже не имея более никакой возможности удерживать рвущийся наружу звон, я зачерпнул горсть тёплых жёлто-чёрных костяшек. Если бы мне в ту секунду дали боевой пистолет, я бы, возможно, пустил себе пулю в лоб, но пистолета не было.
Елена аплодировала своими маленькими крепкими ручками с розовым маникюром, а Катя визжала и, выхватив из-под стола бутылку, готовилась запустить её в стену. Гамлет с боязнью следил за Катей и с восторгом за мной.
Поднеся костяшки ко рту, я почувствовал слетающий с них запах тысяч чужих прикосновений.
Вдруг дверь, дрожа, распахнулась от толчка, и на пороге появился бледный как смерть Кобрин.
Я страшно обрадовался появлению Кобрина и затолкал костяшки в рот. Пожевав их немного, я выплюнул все назад в вазу, выразив таким образом как бы протест против обычного способа удовлетворения голода и приглушив немного внутренний звон и жжение.
Гамлет, увидев Кобрина, забеспокоился, словно киплинговская мартышка, к которой пришёл удав Каа, и стал оглядываться на меня и на всех.
Кобрин выглядел плохо. Лицо его осунулось и посерело, от носа к углам рта пошли две большие морщины, волосы были взъерошены, и даже залысины, казалось, сделались больше. То есть выглядел он как раз так, как и следовало выглядеть, чтобы быть к месту в нашей компании.
— Круто вы нарезаете! — сказал он с какой-то мучительной усмешкой.
Кобрин презирал Гамлета и те компании, что у него собирались. Это презрение было своеобразным достоянием Кобрина. Он берёг и лелеял его. Однако он пришёл и знал, что войдёт и будет пить, и это, по-видимому, мучило его.
На несколько мгновений установилась тишина. Играла только турецкая музыка. Все молчали. Елена положила свою ручку мне на плечо и стала меня поглаживать. Лиза, не любившая Кобрина, когда он пил, прямо и серьёзно, без тени боязни, смотрела на него сузившимися зрачками — так, как будто выходила против него на борцовский ковер.
— Заходи, Игорь, — засуетился Гамлет.
— Как поживаешь, Андрей? — не обращая на хозяина внимания, сильно изменённым голосом и растягивая слова, как какой-нибудь узбек, спросил меня Кобрин.
— Классно. А ты? — ответил я, радуясь его приходу, но ничем не выказывая этой радости.
— Как видишь, — сказал он, снова усмехнувшись.
Гамлет подставил ему стул, и он сел — слева от меня и спиной к двери.
Очнулся Ваня.
— Кобрин… — сказал он, улыбаясь и протирая глаза, в уголках которых, как ни протирай, всё равно всегда оставались комочки слизи. — Пьяный Кобрин — плохо собран!
— Молчи, Беленький! — ответил Кобрин таким голосом, словно назвав Ваню по фамилии, навесил на него ценник.
Жизнь Кобрина протекала в соответствии с жёстким циклическим распорядком, как бы заданным какой-то потусторонней силой, и изменить этот распорядок Кобрин, очевидно, не мог.
Какое-то время, сторонясь не только гниловатенькой институтской публики, или, например, салона Гамлета, но и самых отчаянных и крепких компаний, он исправно посещал занятия, а после занятий с большой чёрной папкой, застёгивающейся на блестящую змейку, ходил по каким-то редакциям и, встречаясь с кем-либо из буйных приятелей, пощупывал свою таинственную, внушающую зависть папку и улыбался пренебрежительной и далёкой улыбкой. Кобрина печатали, у него уже было какое-то имя, какие-то другие, неинститутские, связи, и ему даже удалось получить две-три литературные премии, которые тогда довольно щедро выдавались как-то вдруг появившимися в стране и не известными до тех пор организациями.