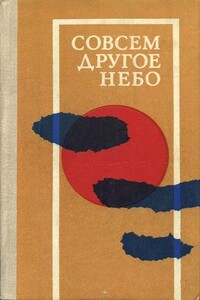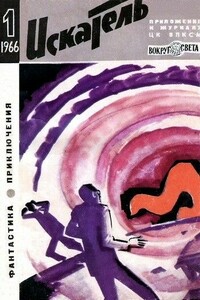Ваш сын два часа при двадцатиградусном морозе разгребал руками снег. Снег набивался в рукавицы, таял. Вскоре рукавицы намокли, а потом обледенели. И когда он вытащил из-под снега офицера, сам почти уже не чувствовал рук. Лейтенант Горбунов был без сознания. Ему нужна была медицинская помощь. Ни о чем не думая, кроме как о спасении своего командира, Николай пять километров по бездорожью нес его на себе.
Ваш сын спас офицера, но сам обморозил обе руки, и нам пришлось немедленно положить его в госпиталь…»
Бледная, неподвижными глазами смотрела на меня Мария Захаровна.
— «Об этом мы хотели сразу же сообщить вам, — продолжал я, — но Николай очень просил, чтобы вас не тревожили. Теперь он почти выздоровел и скоро сам обо всем вам напишет. Мы с большой радостью сообщаем об этом, и от имени всего личного состава полка я приношу сердечную благодарность вам, матери, которая вырастила и воспитала сына мужественным и волевым человеком.
С глубоким уважением. Полковник Фиронов».
Некоторое время мы молчали, обдумывая только что прочитанное письмо. Цветастым передником Мария Захаровна смахнула с морщинистого лица блестящие, как росинки, слезы, задумчиво сказала:
— В отца он у меня. Отцовский характер…
Я на какую-то долю минуты представил Петра. Представил его перед собой таким, каким видел последний раз, когда в октябре 1943 года он, сержант саперного батальона, стоял по горло в стылой воде и своим телом закрывал пробоину в одной из лодок понтонного моста, по которому переправлялись наши танки. Лодку пробил осколок немецкой бомбы, а под руками не было ничего, чтобы быстро заделать пробоину. Тогда была дорога каждая секунда, и Петр, посиневший от холода, судорожно стиснув зубы, стоял в реке, прижавшись животом к лодке. Стоял так до тех пор, пока его не срезала пулеметная очередь «мессершмитта»…
— Иваныч, ответ надо писать, — прервала мои мысли Мария Захаровна.
— Сейчас?
— Малость погожу. Обдумаю все, а тогда уж и напишем.
Она бережно спрятала на груди письмо и пошла домой.
Я смотрел ей вслед, и мне казалось, что сегодня Мария Захаровна меньше горбится и выглядит намного моложе.
В полдень пошел дождь. Он слизал остатки ноздреватого снега, что лежал в ложбинах и междукустье. После дождя асфальт блестел так, будто его натерли соляровым маслом. Встречные машины слышно пошумливали колесами. Дорога ровная, и только изредка попадались мелкие колдобины и выбоины. «ЗИЛ» на них сильно встряхивало, и сержант Владимир Чебыш слышал, как досадно ворчал Генка:
— Черт знает что такое! Бесхозяйственность… Не могут дорогу починить. Машину угробишь…
Исподволь Чебыш посматривал на Генку. Лицо у шофера обветренное, с темным весенним загаром, круглый с яминкой подбородок. Серые, как колчедан, глаза Генки устремлены вперед, и кажется, что, кроме машины и дороги, для него на свете ничего не существует. Но Чебыш-то отлично знал, что это вовсе не так. В Ленинграде, куда они ехали, есть девушка. Звали ее Леной. Любил Генка Лену и ни от кого этого не скрывал. Вот уже второй год он чуть ли не каждый день шлет ей письма.
Лена училась в сельскохозяйственном техникуме, где училась и Наташа — девушка, за которой ухаживал Чебыш. Лена и Наташа были подругами. Это-то сблизило и Генку с Чебышем.
Генка был товарищ неплохой. Он нравился Чебышу, хотя иногда Владимир и подумывал, что Генка Кулазов — парень с чудинкой…
Длинная дорога утомляет, и сержант нетерпеливо глянул на часы — до города оставалось еще минут двадцать езды. Шоссе протянулось змейкой меж молодого березняка. На повороте, где за придорожной канавой поблескивала водой воронка, сохранившаяся еще с войны, Генка остановил машину. На вопросительный взгляд товарища пояснил:
— Водички в радиатор подлить надо.
— Ты же не так давно заливал…
Генка не ответил, полез в кузов, громыхнул оцинкованным ведром и потом зашагал с ним к воронке. Притащив ведро воды, он свинтил крышку с раструба радиатора, крикнул:
— Марля в ящике. Подай-ка!
Чебыш достал из ящика марлю, через окно дверцы протянул ее Генке.
— Марля-то зачем! Руку поранил, что ли?
Шофер посмотрел на сержанта так, словно тот спросил у него не про марлю, а задал вопрос, отвечать на который не было надобности.