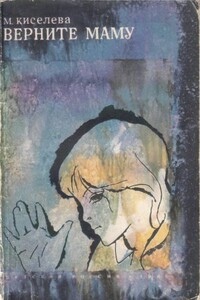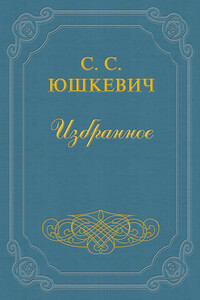– Ну ты.
– Правильно! Молодец. А теперь – кто идёт?
Скрип-скрип ведёрко.
– Бабушка твоя.
– Верно! – закричал Гошка. – Вот видишь! То есть ты не видишь, а чутьём определяешь. Стой, стой, не вылезай! А теперь…
– Гав-гав! – кто-то задёргал Милочку за платье.
– Ой, Жучка! – закричала она на весь двор.
– Правильно! – орал Гошка. – Я говорил!
Милочка плакала и пряталась за Гошкину бабушку от Жучки. И тренировать своё обоняние никак не хотела.
– Рёва такая, – сказал Гошка Шурику. – Весь опыт сорвала. А хорошо уже получалось. – Он потрогал спичечную коробку в кармане. – Дегтярная мазь, это я для канарейки купил. Положу в клетку. Будет улицей пахнуть, деревней. Веселее станет. Не веришь?
Нет, почему же? Шурик верит. Конечно, если среди зимы представить себе лето, да ещё деревню, никаких тебе, значит, уроков… конечно, веселее станет. Нет, уроки – это не для канарейки, но вообще… Кто же лето не любит?
– Вот пойдём ко мне, посмотришь, – сказал Гошка. – Посмотришь, как она повеселеет.
Пока раздевались в передней, из комнаты было слышно тоненькое и певучее:
– Цып-цып-цыпу-улечки! Цып-цып, моя ми-иленькая!
Шурик догадался, что это Гошкина сестра, которая уже пришла из школы. Канарейка сидела на жёрдочке и, повернув голову набок, клевала морковку, просунутую между прутиками клетки. Она так бойко и уверенно долбила клювом, что сама себя чуть не сбрасывала с жёрдочки и всё время цепко хваталась за неё своими тонкими длинными пальцами с острыми, как загнутые шильца, коготками.
Гошкина сестра повернулась, сказала Шурику: «Здрассь…» – и быстро отвернулась и закрыла своим бантом канарейку.
Шурик хотел подойти к клетке, но Гошкина сестра опять оглянулась, и Шурик почему-то остановился.
– Цып-цып-цыпу-улечки… – бормотала Гошкина сестра совсем уже тихонько, так что получалось только: «ып-ып-ыпу-улечки…» – но канарейка всё равно клевала. Это было слышно по дребезжанию прутиков, которые держали морковку.
Шурик сначала растерялся, но потом всё-таки догадался, что канарейка никакого клюквенного запаха не боится, раз она так ладит с Гошкиной сестрой. А скорее всего, у неё просто обоняния нету.
– Отойди-ка, – сказал Гошка и отодвинул плечом сестру.
– Ну тебя, – сказала она и встала опять на своё место. – Ты сам неправильно делаешь: морковку надо не резать, а давать вот так, целиком. Видишь, клюёт.
– Целиком, целиком. Где это ты видела на воле, чтобы птица клевала целую морковь?
– А что же, она её на воле мелко режет? – прищурила глаза Гошкина сестра. Она опять взглянула на Шурика и хотела отойти, но тут Гошка достал коробку с дегтярной мазью.
– Фи, гадость, – сказала Гошкина сестра и зажала нос.
А Гошка открыл коробку, помахал ею вокруг себя, чтобы запах разошёлся по всей комнате, и положил в клетку. А ещё он принес откуда-то из передней ржавую подкову и тоже положил в клетку.
– Вот теперь у тебя, – сказал он канарейке, – привольное житьё. Уже лето и пейзаж. Деревня. Чирикай на здоровье. Здорово я сделал? – спросил он уже у Шурика.
Шурик не успел ответить, потому что он смотрел на дверь, за которую ушла Гошкина сестра.
– Ах, это… – сказал Гошка. – Да это потому, что она теперь немного умнее стала. Ест ириски – «Кис-кис». Я запретил ей «Клюковки».
– Я сегодня опять «Клюковки» ела! – сказала Гошкина сестра из-за двери. – И вчера…
Гошка вдруг начал подсвистывать и выделывать трели: «пи-ик! чу-уик!» – чтобы канарейка ему отвечала, а сестра, наоборот, замолчала. Гошка очень старался, и канарейка действительно, наклоняя головку, внимательно слушала, а потом стала тихонько что-то чирикать.
– Видишь? – показывал Гошка. – Что значит дёготь! Она раньше в это время не пела.
Шурик Чижов видел, но думал все-таки, что это вовсе не из-за мази. И обоняние тут ни при чём.