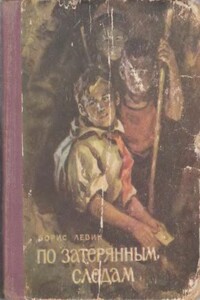Огнев застегнул шинель и удивленно взглянул на посетителя, который и после сказанного почему-то не уходил и, казалось, нисколько не был огорчен отказом.
— Вы, сударь, что-то еще хотели?
— Да, одну минуту вашего внимания. Дело в том, Иван Дмитриевич, что у меня предписание на ваше имя. Вот, прошу вас. — С этими словами Котляревский вынул из-за обшлага шинели и подал несколько озадаченному Огневу конверт, надлежащим образом опечатанный большой сургучной печатью. Оглядев печать, скорее по привычке, нежели с целью проверить, цела ли она, Огнев взломал ее и разорвал конверт.
Прочел предписание, затем еще раз. В бумаге было несколько фраз, и, чтобы прочесть их, не требовалось много времени, но Огнев читал медленно, будто желал удостовериться, что перед ним не поддельное письмо, а настоящее. Вдруг он — о чудо! — преобразился, холодные серые глаза его потеплели, на скулах вспыхнул румянец; пригласил Котляревского присесть, хотел было тут же снять свою шинель и треуголку, но Иван Петрович извинился и спокойно сказал:
— Я, разумеется, приду к вам, и не раз, но сейчас я бы желал...
— Да, я понимаю, вы бы желали тотчас?..
— Совершенно верно, Иван Дмитриевич. С вашего позволения, я бы посетил Дом, то есть место моей будущей службы.
— Извольте. Я как раз еду в ту сторону.
Невысокие воротца. Квадратный вытоптанный двор. Дом в восемь окон. Длинный, приземистый, крытый камышом.
За домом — сад, уже облетевший, черные деревья тянут к неласковому небу тонкие беззащитные ветви. В глубине двора, под высоким плетнем, — колодец; журавль, раскачиваясь, перечеркивает низкое серое небо надвое. Колодец почему-то не закрыт — недоглядели; а ведь здесь дети, никто и не заметит, как беда случится. О чем думаешь, господин надзиратель, не успел еще порога переступить, а уже недостатки ищешь?
Огнев всю дорогу повторял одно и то же, будто дятел долбил: нелегко, может, даже очень нелегко будет, но вы согласились, сударь, не жалуйтесь после. Дети — они, конечно же разные, особенно трудные те, которые не понимают, как важно прилежно учиться, быть внимательными и послушными, а посему приходится вести с ними бесконечные словесные дуэли, то есть убеждать, просить, доказывать, но часто, как это и случается, у таких детей отсутствует слух, тогда — волей-неволей — применяется, как бы сказать поточнее, в некотором роде... принуждение.
— Имеете в виду... телесные наказания?
— Иногда и... это.
— Но сие предосудительно, более того, я слышал: сие запрещено.
— Вы так думаете? — Левая бровь на сухом лице директора училищ вскинулась вверх: как вы, сударь, наивны. Но сказал Огнев другое: — Впрочем, да, запрет существует... Однако поживете — и убедитесь сами, что в нашем деле важнее и какая из метод лучше. Педагогика, сударь, наука древняя и, несмотря на то, весьма, весьма не изучена. Каждый в ней свои стежки открывает.
Коляска остановилась, можно было выходить, но Огнев не торопился, он продолжал развивать свои мысли: начал рассказывать, как отличается воспитание в одной стране от воспитания в другой, вспомнил древнюю Спарту, где слабых детей сбрасывали со скал в море, а в юношестве воспитывали выносливость и смелость; говорил о Китае и народах Индии, упомянул имена Коменского и Песталоцци, осудил метод воспитания Жан-Жака Руссо.
— Я сию методу не приемлю, впрочем, ее мало кто и знает у нас. Руссо кличет ближе к природе, а ведь так весьма легко воспитать и свободомыслие.
Котляревский, чтобы не истолковали его возражения как излишнюю самоуверенность, молчал. Он не верил, не представлял себе, что детей, отданных родителями на воспитание, кто-то смеет наказывать за то, что они не смогли быстро, как, может, хотелось господам наставникам, уразуметь преподанные уроки. И это в наш просвещенный век! Неужто невозможно ребенка, что как воск мягок, убедить в пользе учения? Неужто нет способа вызвать у отрока любознательность к непостижимо захватывающим тайнам науки?
— Не отрицаю, сударь, — продолжал говорить Огнев, поднимаясь на крыльцо по скрипучим ступеням, — не все одинаковы, имеются и прилежные, работать с такими — одно приятство. — Высоко поднимая ноги, обутые в глубокие галоши, он первым вступил в темные сени. — Но есть у нас и случайные на стезе науки, это беда наша. Забота, правда, об этом, прежде всего, господ учителей, хотя и надзиратель не должен оставаться в стороне в сем деле.