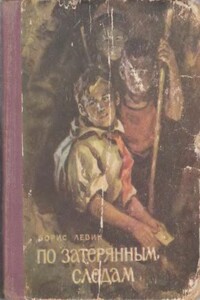Иван Петрович больше ни о чем не спрашивал. Да, Огнев дал понять, что не скоро он, капитан, удостоится его доверия, и это было огорчительно: чем заслужил подобное отношение? Без его, Огнева, ведома получил назначение? Но ведь был у него, просил. Ах, об том уже забыто!..
Вошел Феодосий, с трудом переводя дыхание, доложил: собраны все, отсутствует Замчевский, отпросился домой и пока не вернулся, и еще нет одного — Мокрицкого Федора, отлучился без спроса.
— Как без спроса?
— Сам не знаю, вашество... Убег, стало быть.
— Разберись, и ежели что... сам понимаешь, дабы впредь искоренить подобное...
— Слушаюсь!
Едва вслед за Огневым Котляревский переступил порог низкой и длинной комнаты, именуемой столовой залой, как на него тут же уставились десятки глаз. Серые, черные, голубые, карие — они смотрели испытующе, с подозрением, надеждой, следили, не пропускали — Иван Петрович был в этом уверен — ни одного его движения.
Он знал; ничто не укроется от этих глаз, даже ученики, казавшиеся равнодушными, безразличными, тоже следят за ним, видят его смущение, замечают, как он побледнел, как на лице мелькнул и погас страх. Не взял ли он на себя слишком трудные обязанности? Когда-то он, будучи учителем, не смог справиться с одним лишь учеником — так и не добился от молодого Томары любознательности, стремления самому доискиваться правильного решения наипростейших задач, а в имении Голубовича было совсем иное. Там помещичьи отпрыски отнеслись к нему, как и должно ученикам, он быстро подружился с ними, и мальчишки ходили за ним по пятам, хорошо учились...
Имение Голубовича... О чем он вспомнил? Как давно это было и... как свежо в памяти. Словно вчера только разговаривал с Марией, провожал ее домой поздно вечером, а она, прощаясь, сказала, что любит и будет ждать его одного... Больше они не встречались. Шестнадцать лет миновало, а он все помнит...
— Итак, дети, — заскрипел тягучий бесцветный голос Огнева, — с сегодняшнего дня вашим надзирателем будет господин капитан Котляревский Иван Петрович...
За столами сидели его — теперь уже его — воспитанники, с этой минуты он за них в ответе, вон за того — рыжего, развалившегося за столом, и за черненького, напряженно смотревшего на Огнева; и того, что плохо пострижен и не застегнут; и того — с ухмылкой на пухлых губах; и вон того — равнодушно поглядывающего по сторонам. Боже, какие они разные! Как же с ними разговаривать, чтобы поняли, поверили, что он им друг и желает только одного — взаимного доверия.
— Господин надзиратель, — монотонно продолжал Огнев, — единственный, кто имеет право отпускать вас домой на каникулы, разрешать ваши повседневные нужды. Ему предоставлено право спросить с каждого, ежели будет за что... Но я надеюсь, вы будете прилежны и не станете огорчать господина Котляревского и... меня. — Огнев помедлил, поправил жесткий стоячий воротник мундира. — Он и уроки станет проверять, и будет с вами в часы вашего досуга, хотя и не всегда. Господин капитан — человек военный и любит порядок, послушание. Вот так-с. От вас самих будет зависеть его к вам расположение...
Огнев говорил бы, вероятно, еще долго, но время близилось к полудню, а он привык полдничать в один и тот же час и потому, вытащив из кожаного футляра часы, щелкнул крышкой и, отведя руку подальше от глаз, посмотрел на них, затем снова сунул в футляр.
— Итак — все ясно? Оставляю вас, господин капитан. До свиданья!
Воспитанники встали. Огнев попрощался с Котляревским.
— Благодарю вас, Иван Дмитриевич!.. Завтра поутру я буду у вас с докладом... Позвольте проводить вас?
— Не утруждайтесь.
Унтер проворно пошел впереди директора, широко распахнул дверь.
Котляревский стоял у окна и смотрел во двор: Огнев не торопясь прошествовал к коляске, все так же не торопясь сел в нее, кучер тотчас натянул вожжи, и коляска, чуть покачиваясь, выплыла со двора.