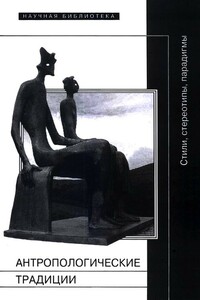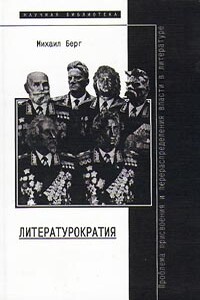В одной серии мыши преследуют кота Леопольда в его квартире, в другой — в поликлинике, в третьей — «за городом» и так далее. Смена обстоятельств — это смена атрибутов мучительства. Своего рода каталог, «конструктор». Внимание зрителя обеспечивается изобретательностью авторов сериала в отношении технологий насилия. И технологий страдания — сами мыши постоянно попадают в тяжелейшие для них ситуации: падают с большой высоты, расплющиваются, захлебываются в воде, проворачиваются в стиральной машине… В целом, насилие мышей в фильме все время оборачивается против них. Они постоянно затевают нечто сложное и губительное для кота, но в итоге попадают впросак. Этот прием проводится настолько последовательно, что начинает напоминать иллюстрацию к буддистским книгам по боевым искусствам — раздел о том, что, если действовать правильно, зло поразит само себя [572]. После того как мыши в очередной раз наказали сами себя, появляется кот со своим «Ребята, давайте жить дружно!». Попутно коту всегда достается, но мышам — не меньше. Таким образом как будто бы решается проблема воздаяния, но насилие как таковое остается на своем месте. Оно не исчезает и не уменьшается от того, что обращается против тех, кто его несет. Это подтверждается возобновлением интриги в каждой новой серии с той же точки, с которой начиналась (но не заканчивалась) предыдущая.
Характерно, что подготовка к насилию — подаваемая неизменно комически — занимает в фильмах про Леопольда гораздо больше места, чем само насилие, в отличие, скажем, от сериала про Тома и Джерри. Это можно расценить как более гуманистический подход, поскольку «по факту» актов демонстрируемого непосредственно насилия меньше. С другой же стороны, не имеем ли мы здесь дело со смакованием насилия? Ведь мы видим не что иное, как пролонгирование акта насилия, психологически более изощренное — более эстетизированное, богатое и, соответственно, более искушающее сообщение…
Зрителю предлагается воспринять происходящее на экране только как смешное, в отрыве от общечеловеческого сострадания к живому существу, претерпевающему боль. Не имеется «презумпции» гуманистического отношения также и к «плохому», к преступнику, что, вообще-то говоря, предусмотрено любым современным юридическим кодексом, хотя бы формально, даже не в самых просвещенных обществах. Главная и единственная задача — чистая развлекательность. «Экшен» и смех. Этический месседж здесь — в отсутствии этики. Вернее, в ее отсутствии на традиционном для гуманистической цивилизации последних нескольких веков центральном месте. Этика (или ее внешние признаки) — один из элементов, используемых для создания эффектов, находящихся в другой плоскости. Само по себе это — как бы вне этической же оценки, «просто профессионализм». Как в журналистике. В то же время в журналистике, в том числе в документальной хронике, есть ограничения в отношении «порога» транслируемого насилия. Такие ограничения находятся в противоречии с требованиями рейтинга популярности, и массмедиа все время балансируют на грани между разрешенным и интересным. Многое определяется психологической культурой общества в той или иной стране. Важен социокультурный контекст: какая система ценностей существует в данном обществе априори, «по умолчанию». И если зритель видит «картинку», в нашем случае ребенок позднесоветского времени — мультсериал, то возникает вопрос; какая картина мира проецируется в сознание реципиента? Как если бы сознание было экраном, априорная система ценностей, аппарат социокультурного восприятия — проектором, а происходящее в фильме — слайдами.
В «Приключениях кота Леопольда» очень высокий «порог» приемлемого насилия, санкционированного данной культурой, высокий «нулевой уровень» насилия и мучительства, не воспринимаемого как нечто выходящее за рамки эмоциональной (и социальной) нормы. В консенсусе общепринятого позднесоветского восприятия, в ряде аннотаций и рецензионных описаний ситуация прочитывается как вариация бытового хулиганства. Кот Леопольд — «интеллигент», мышата — «дворовая шпана» (по типу производимых пакостей и по атмосфере близко также и к коммунальной квартире). То есть знакомое, «свое», «ничего особенного» — приемлемое.