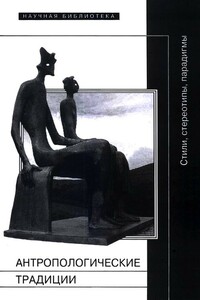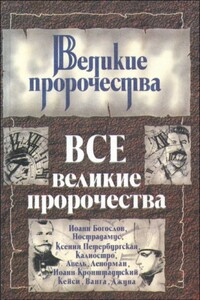Согласно Маяковскому, в статье «Как делать стихи?» сравнившему поэзию с шахматами (Маяковский 1973, 3; 268), даже самый гениальный ход не может быть повторен при аналогичной ситуации в следующей партии. Хитрук, напротив, весь принцип повтора построил на возвращении неожиданности: «Я оперировал ими, этими повторениями. Я считаю, что это тоже прием. Повторение чего-то есть прием — особенно в сериалах, когда зритель идет за вами, и вы должны его настроить на этот ритм, и там, где нужно, если вы здорово манипулируете сознанием зрителя, вы можете заставить его носом ткнуться и, значит, переориентироваться» (Хитрук 2008; 293). Здесь раскрывается, как кажется, важнейшая для понимания поэтики Хитрука идея гипотетической игры со зрителем.
Не случайно игровые принципы заложены непосредственно в начале трилогии, и внимательному зрителю не составит труда расшифровать правила игры. Первая серия открывается рисунком, который должен напомнить настольную игру, картой с изображением леса, полян, Пуховой опушки и старого дуба, с дорожками и оставленными на них следами. Камера скользит по полю, но темп ее движения меняется резкими сдвигами. С появлением субъекта повествования становится ясно, что зрительная аритмия полностью подчинена физиологическим особенностям медвежонка — камера замирает и начинает двигаться вместе с ним, и в зависимости от этого динамизируется вокруг весь пейзаж.
Сам режиссер признавал наличие игрового элемента в своей художественной системе и свидетельствовал о кропотливой работе, необходимой для успеха психологического трюка: «Это приятная игра… И когда это получается, огромное удовольствие и вы получаете, и зритель тоже… Но для этого нужен, наверное, и опыт, и попытка психологически проникнуть в подсознание. Ничего такого у нас нет, что не требовало бы вот этого подсознательного анализа. Ни один жест у нас спонтанно не происходит. Ведь мы все должны придумать, продумать и разложить…» (Хитрук 2008; 293).
Благодаря тому что минимальные внешние проявления признаков мысли точно соотносятся друг с другом, реакции персонажей разгадываются и взрослыми, и детьми. Способность Хитрука проникать в психологию восприятия зрителя ценилась коллегами по цеху [475], а сам режиссер хорошо сознавал парадоксальную природу экранизируемого произведения и не пытался ее упростить. Недаром Хитрук так настоятельно просил Заходера придумать стишки, максимально похожие на начало «Крокодила» К. Чуковского, но цитировал лишь первую «приличную» строку:
Жил да был
Крокодил.
Он по улицам ходил,
Папиросы курил.
По меткому наблюдению М. Петровского, «крокодилиады» Чуковского представляют собой перевод на «детский» язык великой традиции русской поэзии от Пушкина до наших дней. Для Чуковского, с его способностью чутко и точно улавливать социально-культурные процессы начала XX века, низовые жанры искусства — рыночная литература, цирк, эстрада, массовая песня, романс и кинематограф — сложились в новую и жизнеспособную систему (Петровский 2006; 31–32). Но если для многих произведений «высокой» классики свойственно нисхождение по возрастной лестнице («Дон Кихот», «Путешествия Гулливера», «Приключения Робинзона Крузо», «Хижина дяди Тома», сказки Пушкина, басни Крылова), то в случае «Винни-Пуха» наблюдается более редкий обратный феномен — «восхождение» произведения и существование его одновременно в двух возрастных рубриках.
Разработка ландшафта в «Винни-Пухе» пренебрегает принципами линейной перспективы: герои Хитрука передвигаются, как правило, по горизонтальной плоскости — из левого края экрана в правый и обратно, реже — по диагонали. Перспектива редуцируется и, как следствие, стоит обращать повышенное внимание на мизансцены с явно обозначенной многоплановостью. Нарушение нормативной геометризированной глубинности кадра через уплощение пространства в европейском кинематографе применялось уже в 1920-е годы в творчестве Мурнау (Ямпольский 2004; 91). Перебирающий лапками по дорожке Пятачок иногда фронтально поворачивается в сторону зрителя, при этом создается впечатление, что герой заглядывает ему прямо в глаза.