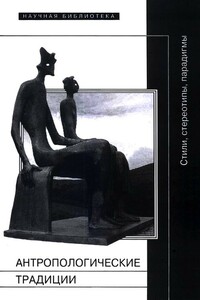Карлсон — жестокий кумир. Его совершенно безразличного вопроса достаточно — чтобы перевернуть все представления, снисходительной просьбы — чтобы разбиться вдребезги от счастья ее исполнить (а он не требует, не просит), иронии по поводу чего-то совершенно постороннего — чтобы сгореть со стыда за собственное несовершенство. Его провокации чудовищны, а аргументы банальны, с ним оказываешься в самых мучительных положениях при самых отягчающих обстоятельствах, и в критическую минуту он предательски отстраняется, чтобы свалить на тебя всю ответственность. <…> Он появляется как дар безответственной свободы и уходит, когда обретается мужество расплаты. Карлсон просто необходим, он приучает не бояться смотреть на все с крыши. А это пригодится в жизни [408].
Совершенно очевидно, что, выстраивая ряд от Бабы-яги до Карлсона, Смирнов «держит в уме» формализованные схемы сказочных сюжетов — по В. Проппу или даже по К. Леви-Строссу — и пишет об изменении их семантики: фигура трикстера — нарушителя законов «взрослого» общества в 1972 году оказывается не пугающей, но спасительной, потому что свидетельствует о возможности освобождения личности. В этой статье Карлсон окончательно превращается в антропологическую метафору, необходимую для самокритики «шестидесятнического» сознания. Прочь иллюзии: общество в целом не эволюционирует (потому что ему этого делать не дают), освободиться может только отдельный индивид, который обрел «мужество расплаты» за прежние шалости. Из концентрированного выразителя идеи детства, каким видели Карлсона авторы второй половины 1960-х, Карлсон под пером Смирнова превратился в учителя свободы сугубо экзистенциалистского толка — в духе не Сартра, но Альбера Камю. Замечу, что детство и свобода — понятия, в лексиконе «шестидесятников» семантически близкие, но не идентичные, и статьи Уваровой и Смирнова свидетельствовали о заметном сдвиге смысловых акцентов.
Поиски «тончайшей технологии»
Для того чтобы понять, какое отношение имеют мультфильмы Б. Степанцева к разнообразным реинкарнациям Карлсона в театре и критике конца 1950-х — 1960-х годов, особенно в критике «шестидесятнической», понадобится сделать несколько важных замечаний теоретического характера.
Сказочные фильмы и книги для самых маленьких, чаще всего не имевшие «двойного дна» и не использовавшие эзопов язык, тем не менее функционировали в те годы как своего рода «антидот», способствовавший последовательной перекодировке советских репрессивных идеологем в ценности эмоциональной открытости, свободы и доверительного общения (мультипликационные трилогии о Чебурашке и Винни-Пухе, фильмы «Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен» (1964) Э. Климова и «Айболит-66» (1966) Р. Быкова, роман П. Трэверс «Мэри Поппинс», переведенный Б. Заходером, и первые повести о муми-троллях) [409]. Политические аллюзии или пародийное переосмысление советских языковых штампов в таких сказочных произведениях могли присутствовать, а могли и отсутствовать — но даже тогда, когда они появлялись, эти аллюзии были вторичны, они были следствием того, что и авторы, и читатели/зрители воспринимали сказочные книги и фильмы как пространства «конверсии» социальных смыслов.
Это новое представление о детской культуре объединяло людей с достаточно разными политическими убеждениями, от близких к диссидентству до вполне лояльных режиму, — хотя, вероятно, у оппозиционеров оно было более отрефлексированным. Разумеется, в легальной советской культуре того времени были и другие сказки — верноподданнические, скучные или примитивные, — но описываемая модальность создания сказок для самых маленьких в 1970-е годы «задавала тон» и неявно определяла критерии качества.
Как я уже говорила, в конце 1960-х годов возник «социальный запрос» на лишенные дидактизма развлекательность и лиризм (или сентиментальность). Театральные постановки «Малыша и Карлсона» сразу же стали реализовывать этот запрос через давно опробованные средства: в случае Карлсона — эксцентрику и клоунаду, в случае Малыша — традиционный арсенал романтических женских и юношеских ролей. Таким образом, театральный Карлсон сочетал черты откровенного клоуна и дидактически понимаемое «внимание к детской душе» — то есть был сентиментальным клоуном. Его амплуа, если использовать терминологию В. Проппа и К. Леви-Стросса, было амплуа не трикстера, но волшебного помощника.