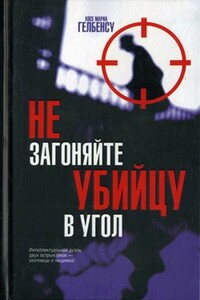Не так уж и глупо, хотя подобное видение смерти кажется мне весьма экзистенциалистским. Оно как-то не вяжется с тобой. Но ты рассказывала о своем умершем сыне.
Да. Бедненький. К счастью, у меня не было случая задуматься об этих вещах. Сейчас меня уже почти не затрагивает мысль о собственном исчезновении. Прежде — да, но теперь мне не страшно. Я испытываю что-то другое, но не страх. Это был ужасный, жестокий опыт.
А о чем ты думала тогда?
Что во мне что-то умерло. Я не проводила философских исследований, ничего такого. Но во мне что-то умерло и так и осталось там, внутри меня. Хочу я этого или нет, оно во мне, я несу его в себе, как балласт.
То, что ты потеряла.
Нет. То, что есть у меня, во мне. Мертвое. Видишь, какая странная ситуация? С тех пор я ношу в себе смерть, некую мертвую тяжесть, мертвый кусок жизни, подобно какому-то отмершему, бесполезному, высохшему органу. Вот здесь, внутри.
Да, это хороший образ.
Нет. Это не образ. Это реальность. Это так. Я ношу это внутри. Я не потеряла это, оно не в памяти, и это не образ… Ты не понимаешь. Нет. Ты не можешь понять, до меня только сейчас это дошло. Он был еще слишком мал, чтобы умереть самому, поэтому я ношу ее в себе — его смерть. Не надо думать ни о чем странном, о соматическом воспоминании или о чем-то подобном. Это так же реально, как то, что я живу.
Кажется, я знаю, что ты имеешь в виду.
Нет. Конечно же, нет. Но все равно я тебе очень благодарна. Просто есть вещи очень личные.
Мне его не следовало видеть. Если бы сейчас мне сказали, что у ребенка практически нет возможности выжить, я не захотела бы видеть его. Впрочем, вру. Конечно, захотела бы. Нет, и это неправда. Я просто не смогла бы не видеть его. Понимаешь? Даже если бы он дышал всего несколько секунд, я посмотрела бы на него, взяла бы на руки, поцеловала. Даже если бы это принесло мне только отчаяние и слезы, я обняла бы его, и поцеловала бы, и он был бы со мной до тех пор, пока его бы у меня не отняли. Даже если бы он родился мертвым, я взяла бы его на руки и качала бы. Бедный малыш, я плачу, как полная дура.
Ты плачешь о себе.
Да, это правда. Я плачу о себе. Он не может заплакать о своей потерянной жизни, а я плачу потому, что потеряла его. Может, в этом и весь секрет: в том, что мертвые никогда не плачут о себе. Плачут остальные — те, кто измеряет их отсутствие, кто получает завет этой смерти.
На самом деле именно они понимают значение этой смерти. Для умершего, будь он ребенком или стариком, собственная смерть не обладает значением, а для остальных — да. Смерть, когда она приходит, всегда является таковой для тех, кто остался жить, а не для того, кто умирает. В этом смысле мир сильно ухудшился. Теперь больше никто не прибывает с монетой во рту на берег, где поджидает Харон: угасание происходит само в себе, без всякой красоты, без всякой переправы через Ахерон. И никто не стучится в небесные врата, чтобы представиться святому Петру, — нет, угасание происходит быстро, как этот современный метод исчезновения, именуемый кремацией, который пользуется таким успехом по наименее благородной из всех возможных причин: по причине удобства для родственников. Хотя, возможно, не следует упускать из виду и собственное желание некоторых покойников не отягощать этих родственников еще более: своего рода посмертная любезность. Но я забрел туда, куда не следовало, и ты до сих пор плачешь, мне нет прощения.
Да. Смотри, я больше не плачу.
Я смотрел на тебя и видел, что ты плачешь очень медленно, как будто слезы приходят издалека и добираются до глаз, уже устав. Ты плакала сильно и очень горестно.
Ты сказал с большим чувством, спасибо. Ну, ладно, все. Я хотела рассказать тебе о другом. Нет. Рассказать о том, что связано с этой смертью, но не так. Однако тут все имеет значение, потому что я хотела сказать, что вместе с ребенком умерла какая-то часть меня самой, и я ношу это в себе, оно не вышло наружу, как ребенок, оно умерло не вне, а внутри меня и не выйдет наружу никогда. Это что-то мертвое, и оно — часть меня. Оно не болит, не беспокоит, но оно там, внутри, я чувствую его, потому что иногда оно появляется, — знаешь, как делаешь вдруг какой-нибудь частью тела резкое движение и ощущаешь старую боль от забытой раны, вспоминаешь, где она была, и думаешь: она зажила, но она была здесь. Что-то в этом роде.