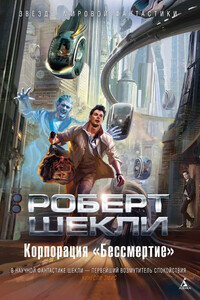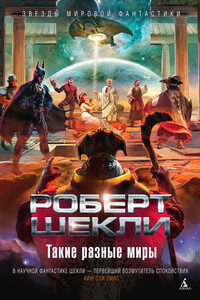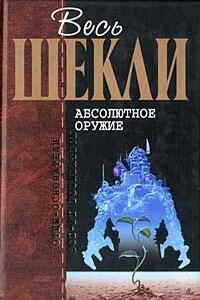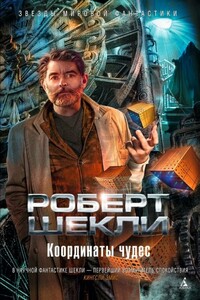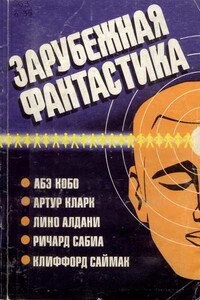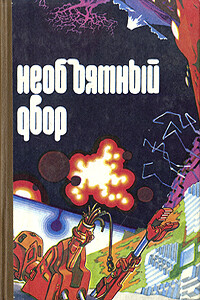Сердцем комплекса был, само собой, инсектарий — генератор модели «Супер Макс», с ручным и автоматическим контролем отбора и смешения, с регулируемой подачей и выброской, с различными максимизирующими и минимизирующими устройствами.
Марвин выбрал «Гавот кузнечика» (Корестал, 431Б) и стал вслушиваться в волнующее трахейное облигато и нежный аккомпанемент духовых инструментов — спаренных мальфиговых трубеол. Познания Марвина в музыке были весьма поверхностными, но он оценил всю виртуозность исполнения: в отдельной ячейке сидел кузнечик, зеленый в голубую полоску, и у него слегка вибрировал второй сегмент брюшка.
Марвин склонился над инсектарием и одобрительно кивнул. Кузнечик в голубую полоску щелкнул жвалами, затем вновь принялся за свою музыку. Это был специально выведенный дискант для техничного исполнения; блистательный артист, хотя трактовка у него не столь правильна, сколь эффектна. Правда, этого Марвин не мог постигнуть.
Марвин выключил тумблер, вернул переключатель из позиции «Активность» в позицию «Спячка»; кузнечик вновь погрузился в сон. Хорошо был укомплектован инсектарий, особенно выделялись симфонии майских мух и новейшие причудливые песни гусениц, но Марвину предстояло еще многое увидеть, и он пока не стал забивать себе голову музыкой.
В гостиной Марвин сел на массивную старинную глиняную скамью (настоящий Уормстеттер!), прислонился к щербатому гранитному подголовнику и решил отдохнуть. Но кольцо в носу тикало и тикало, беспрерывно посягая на его чувство благополучия. Он потянулся к низенькому столику и наудачу вытянул из целой груды первую попавшуюся палочку-почиталочку. Пробежался щупальцами по желобкам, но без толку. Трудно было сосредоточиться даже на развлекательном чтении. Нетерпеливо отшвырнув палочку-почиталочку, он принялся строить планы.
Но он был зажат в тисках неумолимого времени. Приходилось исходить из того, что мгновения жизни строго ограничены и их становится все меньше. Хотелось как-то отметить последние часы. Но как?
Он соскользнул с Уормстеттера и заметался по главной галерее, ожесточенно пощелкивая когтями. Затем внезапно принял решение и отправился в гардеробную. Там он выбрал новую оболочку из золотисто-бронзового хитина и тщательно задрапировал ею плечи. Лицевые щетинки он покрыл ароматическим клеем и уложил en grosse[12] по щекам. Щупальца обрызгал лаком, придающим жесткость, расправил под изысканным углом шестьдесят градусов и придал им изящный естественный изгиб. В заключение припудрил лавандовым песком средний сегмент, а плечевые суставы окаймил черной полосой.
Он оглядел себя в зеркале и остался доволен своей внешностью: одет хорошо, но без пижонства. Судя о себе с предельной беспристрастностью, он нашел, что молод, представителен и смахивает на ученого-гуманитария. Звезды с неба вряд ли хватает, но и в грязь лицом нигде не ударит.
Он вышел из норы через главный вход и закрыл его входной пробкой.
Сгущались сумерки. Звезды мерцали над головой, но их там, казалось, не больше, чем огней у входов в бесчисленные норы, публичные и частные, и все огни сливаются в пульсирующее сердце большого города. Зрелище это глубоко взволновало Марвина. Наверняка, наверняка где-нибудь в переплетении столичных лабиринтов найдется нечто такое, что доставит ему радость. Или хотя бы мирное забытье под занавес.
Итак, Марвин скорбно, хотя и не без трепетной надежды, направил стопы к манящей, лихорадочной Центральной Канаве — выяснить, что уготовано ему фортуной или велено роком.
Стремительной размашистой походкой, скрипя кожаными сапогами, шел Марвин Флинн по деревянному тротуару. Едва уловимо повеяло смешанным ароматом шалфея и туи. Справа и слева кирпичные стены жилищ отливали в лунном свете тусклым мексиканским серебром. Из соседнего салуна донеслись отрывистые аккорды банджо. Марвин затормозил на всем ходу и нахмурился. Откуда здесь шалфей? И салун? Что тут происходит?
— Что-нибудь неладно, чужестранец? — нараспев спросил хриплый голос.
Флинн круто обернулся. Из тени, падающей от универсального магазина, выступила какая-то фигура. Это оказался ковбой — дурно пахнущий сутулый бродяга в пыльной черной шляпе, смешно заломленной на немытом лбу.