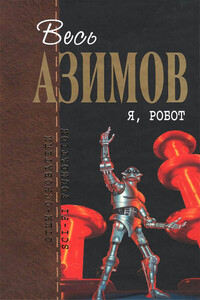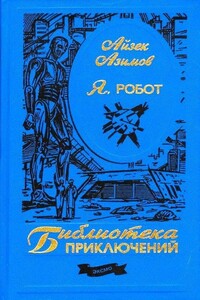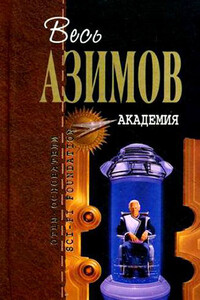— Молчи! — свирепо рявкнул Рейч. — Если мы когда-нибудь поссоримся, я назову её как угодно: дурочкой, глупышкой, вздорной теткой, балдой, да мало ли ещё как. Она тоже может обозвать меня как угодно. Но любые слова забываются, когда помиришься.
— Это тебе так кажется. Погоди, ещё попомнишь меня. Рейч побледнел как полотно.
— Мама, — сказал он, — вы с отцом вместе уже почти двадцать лет. С отцом трудно спорить, но, бывало, вы ссорились и спорили. Я слышал своими ушами. Но разве хоть раз за эти двадцать лет он произнес то слово, из-за которого ты бы почувствовала, что ты — не человек? А я, если уж на то пошло? Я и сейчас этого сделать не могу, хотя я жутко зол. Жутко!
По лицу Дорс, на котором не так ярко, как на лицах Рейча и Селдона, отражались эмоции, трудно было догадаться, какая борьба происходит внутри неё, но она просто лишилась дара речи и ничего не ответила Рейчу.
— А на самом деле ты просто ревнуешь из-за того, что Манелла спасла отцу жизнь. А ты хочешь, чтобы это было доступно только тебе, тебе одной. Ну хорошо, у тебя это не вышло, так что же? Ты бы предпочла, чтобы Манелла не пристрелила Андорина и чтобы папа погиб. И я тоже?
Дорс, задыхаясь, проговорила:
— Он же… не пустил меня… пошёл сам встречать… садовников.
— Манелла тут, извини, ни при чем.
— Так ты из-за этого хочешь жениться на ней? Тобой движет благодарность?
— Нет. Любовь.
Больше ни слова до самой свадьбы Дорс Рейчу не говорила, а Манелла после церемонии бракосочетания сказала мужу:
— Хотя твоя мама и явилась на церемонию, потому что ты её упросил, вид её был подобен одной из тех грозовых туч, что собираются в небе над куполом.
Рейч весело рассмеялся.
— Не дури, у неё не такое лицо, чтобы она могла быть похожей на грозовую тучу. Это у тебя воображение разыгралось.
— Вовсе нет. Что же нам такое сделать, чтобы она подобрела?
— Ничего. Терпеть. У неё это пройдёт.
Увы, не прошло.
Через два года после свадьбы родилась Ванда. Во внучке Дорс души не чаяла — Рейч с Манеллой просто нарадоваться не могли, но мать Ванды для матери Рейча так и осталась «этой женщиной».
Гэри Селдон боролся с меланхолией. Все как сговорились: Дорс, Рейч, Юго, Манелла наперебой убеждали его в том, что шестьдесят лет — это ещё не старость.
Ничего они не понимают. Ему было тридцать, когда мысль о психоистории впервые пришла ему в голову. Через два года он выступил со знаменитым докладом на Конгрессе математиков, а потом всё сразу обрушилось на него: короткая встреча с Клеоном, знакомство с Демерзелем и бегство от мнимой погони по всему Трентору… встреча с Дорс… потом с Юго и Рейчем… а ещё был Микоген, Даль, Сэтчем…
В сорок лет он стал премьер-министром, а в пятьдесят ушёл в отставку. Теперь ему шестьдесят.
Уже тридцать лет он потратил на психоисторию. Сколько ещё лет уйдёт на это? И сколько лет ему суждено прожить? Может быть, он умрет, а Психоисторический Проект так и не будет завершен?
«Нет, не моя смерть пугает меня, — думал Селдон. — Пугает меня именно незавершенность работы над Проектом».
Вздохнув, он встал с кресла и отправился навестить Юго Амариля. В последние годы они виделись не так уж часто, поскольку работа над Проектом разрослась необычайно. В первые годы, когда они работали в Стрилингском университете, их было всего двое — Селдон и Юго, и больше никого. А теперь…
Амарилю было уже под пятьдесят — тоже годы нешуточные, и он как бы угас. Не в смысле работы, конечно, нет, он по-прежнему был душой и телом предан психоистории, и больше у него в жизни не было ничего: ни женщины, ни друзей, ни хобби, ни светской жизни. Амариль, близоруко моргая, посмотрел на вошедшего в лабораторию Селдона, а тот не сумел скрыть молчаливого сочувствия. Да, Юго сильно изменился внешне — отчасти потому, что не так давно вынужден был подвергнуться офтальмологической операции — сказались непрерывные нагрузки на зрение. Видел он теперь прекрасно, однако ещё не успел освоиться после операции, а потому часто моргал, и выражение лица у него было какое-то сонное.
— Ну, какие соображения, Юго? — спросил Селдон. — Виден ли свет в конце тоннеля?