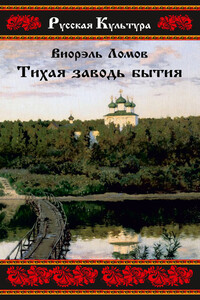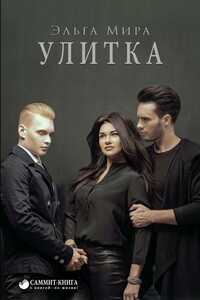— Позаботься лучше о сорняках, Грейс, — проворчал Смит, садясь в джип и махая рукой в сторону моего загона. Этот загон представляет собой месиво из сорных трав, стелющихся якорцев и русского чертополоха с тех пор, как у меня забрали воду, с фиолетовыми цветами вербейника, заполонившего края моей старой оросительной канавы. — Ты же знаешь, я должен о них сообщить.
— Борись с ними сам, если хочешь, — парировала я. — Правительство — единственный инвазивный сорняк[108], который меня беспокоит в последнее время.
После того как Смит уехал, а шлейф красной пыли поднялся на дороге позади него, я некоторое время беспокоилась о том, что назвала правительство инвазивным сорняком. Говорят, свобода слова у нас все еще есть, но теперь уже трудно сказать наверняка.
* * *
Мы со Смитом были влюблены друг в друга в старших классах школы и еще пару лет после нее, но в 2017 году он оказался на стороне правительства, когда оно захватило у фермеров воду, и на этом все закончилось. Хотя он хорошо выглядит. Намного красивее Джерри. Внешность Смита — это единственное, что я теперь знаю о нем наверняка.
Захват воды было трудно проглотить, потому что я была воспитана патриоткой. Мой отец воевал в Афганистане и других местах, которые он не называл. Взрослея, я проводила День памяти павших[109] на кладбищах, а не на барбекю, думая о том, что свобода не бесплатна. Я прикладываю руку к сердцу, когда пою национальный гимн. Я помню по крайней мере половину «клятвы 4-H»[110], и я отношусь к этому серьезно, потому что в ней речь идет о том, чтобы использовать свою голову и руки на благо моей страны. Я настолько верила в демократию, свободу и все такое, что в первый раз, когда услышала, как кто-то сказал, что правительство собирается отменить наши права на воду, я подумала, что это опасный слух, и так и сказала.
На моих землях было так много воды, что я никогда не могла использовать ее полностью, потому что мой прапрадед был одним из первых, у кого хватило воображения заменить кустарник, которым поросли равнины восточного Колорадо, сахарной свеклой и кормовой кукурузой. Я могла бы превратить свою собственность в частное озеро и научиться кататься на водном мотоцикле. Я этого не сделала, потому что кукурузу было легко выращивать, и она ведет себя намного тише, чем жалкий маленький двухтактный двигатель, но я могла бы попробовать. Потом засуха, паника. Общественное мнение твердо стояло за то, чтобы украсть мои права на воду. Все, у кого воды не было, думали, что люди, у которых вода, как у меня, есть, являются жадными ублюдками.
В то время Смит уже работал в агентстве, отвечал за бригаду, навешивающую замки на ворота источников орошения. Ферма Фрэн и моя совместно использовали распределительный узел, и я переняла ее повадку — подбородок поднят, спина прямая, глаза смотрят вперед не мигая. Директор агентства, руководивший командой Смита, казался встревоженным нашим присутствием. Мы видели, как его глаза смотрят в нашу сторону, хотя он и не поворачивал головы.
Фрэн повернулась ко мне, прикрывая рукой глаза от солнца:
— Ты знала, что это должно произойти? Он тебе сказал?
Все мужчины могли ее слышать. Она имела в виду Смита, и я была уверена, что он знал это, потому что покраснел так же, как в первый раз, увидев меня без футболки, когда нам обоим было всего по шестнадцать.
— Похоже, он должен был это сделать, — ответила я.
В то утро мы со Смитом проснулись вместе и разругались из-за непрекращающегося кукареканья Хичкока, но на поле он не смотрел мне в глаза. Все выглядело так, словно я держала весы правосудия. С одной стороны я положила корсаж, который он подарил мне для нашего выпускного бала, серьги, которые, как я знала, не были бриллиантовыми, но сверкали, как настоящие камни, обещания, что он обо мне позаботится, произнесенные шепотом в то время, когда я рыдала в его объятиях на похоронах моей матери. В то время я приняла его торжественность и каменное лицо за силу, но потом, когда он помог правительству украсть мою воду, я положила их на другую чашу весов. Каменное лицо и каменное сердце говорили, что мы с ним потеряли всякое чувство меры.