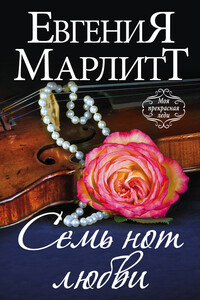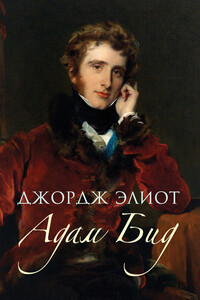Im Sturme dich!
Mit einem Mantel vor dem Sturm
пели Шарлотта и Хелльдорф. Две высокие, стройные фигуры стояли рядом у рояля, на котором им аккомпанировал Дагоберт.
О мои поля под дождём! Когда весенний ливень обрушивается на Диркхоф, пытаясь вырвать ставни и выбить стёкла, когда буря срывает с дуба шапку из сухих листьев и рвёт её на части, когда Илзе тщательно запирает двери, а куры убегают с широкого продуваемого двора и прячутся на своих насестах, я устремляюсь к изгороди и взываю оттуда к пролетающим тучам… Это совсем не то, что шторм зимой! Тысячи и тысячи голосов, которые, пробудившись ото сна, радуются и ликуют! Бурные воды, вырвавшиеся из-подо льда, шумящий вдали лес, в котором пульсирует стремительно пробуждающаяся жизнь, заставляющая звенеть каждый колокольчик, каждую травинку… И я отдаюсь на волю бури, она подхватывает меня и уносит вдаль — и тащит рывок за рывком по пустоши, словно сухой дубовый лист, пока я не оказываюсь на вершине холма и не обхватываю, дрожа и ликуя, мою любимую сосну… Нас обеих трясёт и шатает, старую сосну и меня, но она весело шелестит своей хвоей, и я начинаю смеяться, глядя вверх на толстые хмурые тучи, беспомощно уносимые вдаль… Мокрые волосы хлещут по моему лицу, ветер цепляет и рвёт моё платье — но мне не нужен укрывающий плащ: мои маленькие руки и ноги налились упругой силой… Я храбро прокладываю себе путь домой и журю Шпитца, который уютно устроился в тёплом углу за печкой.
Und käm’ mit seinem Sturme je
звучит в салоне, и голоса поднимаются всё выше и выше, словно на крыльях бури. Я как будто в тумане; но нет, я не должна поддаваться колдовству мелодии — прочь, прочь тоска по дому, её горькие и сладкие мечты!.. Я вижу, как мой отец взволнованно бегает туда-сюда по библиотеке, и это сразу же заставляет меня переступить порог салона. Там в дальнем углу сидит господин Клаудиус, совершенно один. Его рука опирается о подлокотник кресла, лоб и глаза прикрыты ладонью. Густая светлая прядь волос падает на белые пальцы, и я удручённо отшатываюсь — даже матовый серебряный блеск его кудрей действует на меня как холодный душ; я вдруг понимаю, что не могу вспомнить ни слова из моей героической, тщательно составленной речи; мне уже кажется, что он мне откажет, очень вежливо и мягким голосом, но твёрдо и определённо — так, что любое последующее слово будет выглядеть как назойливость… И хотя он сидит сейчас как будто глубоко погружённый в потрясающее пение, как будто отрешённый от всего сущего — всё равно в его голове крутятся одни лишь цифры, и я знаю, что как только я назову ему три тысячи, он снова тихо улыбнётся и скажет: «Вы, очевидно, не имеете представления, какая это большая сумма!»
И тем не менее я подошла к нему; как я преодолела эти несколько шагов, я и сама не знаю. Я склонилась и вполголоса произнесла его имя… Боже, я не хотела его пугать, мой голос прозвучал слабо и робко, но он дёрнулся так, как будто услышал трубный глас Страшного Суда! Он вскочил и улыбнулся — и я поняла, почему: как могло кого-то испугать это маленькое создание, прискакавшее сюда, как воробей!
Он не разозлился, я поняла это, но тем не менее я не могла вымолвить ни слова. Если бы он был в своих ужасных очках и в этой шляпе с широкими полями… Но он только смотрел на меня своими молодыми, синими, огненными глазами… Я вдруг показалась себе совершенно глупой, а ему не пришло в голову вызволить меня из моего беспомощного смущения — он молчал, а у рояля продолжали петь:
Dann wär’ mein Herz Dein Zufluchtsort,
— Вы хотели со мной поговорить? — спросил он наконец вполголоса, когда пение закончилось.
— Да, господин Клаудиус; но не здесь.
Он сразу же прошёл со мной в прилегающий салон и закрыл двери. Уставившись на какую-то блестяще отполированную паркетину на полу, я начала излагать мою просьбу, и дело пошло: я снова вспомнила все те слова и выражения, которые перед этим сочинила… Я описала ему, как жаждет отец владеть медальоном, поведала, что он не может есть от волнения; я рассказала ему, что совершенно не могу выносить вида страданий моего отца — абсолютно не могу, поэтому мне непременно нужны три тысячи, любой ценой — и затем я подняла на него глаза.