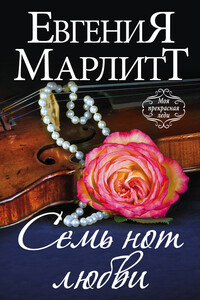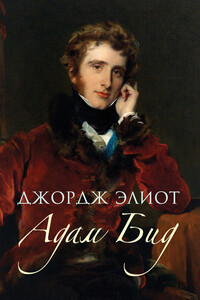Я очень хорошо его поняла — как мягко объяснил он моё состояние! Ещё вчера я сказала бы себе: «Потому что он сам всегда лжёт» — но сейчас я уже не могла этого сказать.
— Я бы очень хотел облегчить вам этот переход, — продолжал он. — Там, в салоне наверху, я только что говорил себе: всё, что я могу сделать, — это безотлагательно удалить вас из этого дома… Но я могу ошибаться в своих суждениях, я тоже могу заблуждаться относительно тех, в чьи руки я передам вашу судьбу и благополучие…
— Я и сама не уйду, — перебила я его. — Неужели вы думаете, что я выдержала бы здесь хоть минуту после мучительного прощания? Я бы пешком побежала следом за Илзе, до самой пустоши, если бы я не должна была — остаться с отцом… Я хорошо знаю, что дитя должно быть рядом со своим родителем, что отец нуждается во мне — какой бы невеждой я ни была, он всё же ко мне привык.
Он поражённо посмотрел на меня.
— У вас больше воли, чем я думал — чтобы заставить выросшую на свободе натуру принять и признать свои обязанности, нужна большая сила духа… Это хорошо, потому что другой вариант я тоже считаю невыполнимым; о нём я подумал в тяжёлый момент удручающих впечатлений, в момент, когда я видел вас оступившейся… — при этих словах он отвёл глаза и поправил прижатый к стеклу оранжереи роскошный экзотический цветок с такой осторожностью, словно это занятие поглотило его целиком. Казалось, он не хочет видеть, как я закрыла руками лицо, чтобы спрятать от него краску стыда.
— Вы совсем не доверяете мне, вернее сказать, это доверие систематически в вас разрушается; поскольку в вашей душе, очевидно, не было ни малейшего недоверия к миру и людям, — сказал он очень серьёзно. — По отношению к вам мне досталась неблагодарная роль верного друга, который неутомимо предупреждает об опасности греха и потому вряд ли — пользуется любовью… Но это не должно меня удерживать от выполнения моего долга. Возможно, когда ваш горизонт расширится, тогда вы, может быть, поймёте, что моя рука является своего рода заботливой родительской рукой, закрывающей углы стола, чтобы дитя не набило себе шишек… Ну не считайте же так усердно песчинки у себя под ногами! — воскликнул он внезапно. — Может быть, вы поднимете взгляд? Мне хотелось бы знать, что вы думаете.
— Я думаю, что вы запретите мне общаться с Шарлоттой, — быстро ответила я и подняла голову.
— Не совсем — на моих глазах или в присутствии фройляйн Флиднер вы можете общаться с ней сколько захотите. Но я самым серьёзным образом прошу вас избегать оставаться с ней наедине. Её голова, как я вам уже говорил, полна нездоровых представлений, и я не допущу, чтобы она заражала вас измышлениями и фантазиями подобного рода… Как быстро непосредственная и чистосердечная душа подпадает под такое влияние, я имел возможность убедиться ещё сегодня. Пообещайте, что вы последуете моей просьбе! — забывшись, от протянул мне руку.
— Я не могу! — выдохнула я, а он, ужасно побледнев, быстро спрятал руку за спину. — Мне страшно и жарко в этом душном цветочном воздухе! — И действительно, моё сердце билось как сумасшедшее. — Видите, дождь стихает, я могу добраться до «Услады Каролины» под защитой деревьев, — пожалуйста, позвольте мне уйти!
С этими словами я выбежала из оранжереи и помчалась вдоль реки; ветер и дождь хлестали всё сильнее — я моментально вымокла. Чтобы не наткнуться на дерево и не свалиться в реку, я рукою загородила глаза — и бежала, бежала что есть мочи, пока не оказалась в холле «Услады Каролины»… Слава Богу, я больше не слышала звуков этого спокойного голоса, который вопреки всему так проникал мне в душу, как будто в нём билось тёплое, живое сердце!
У себя в комнате я сбросила насквозь промокший муслиновый наряд, облачилась в своё высмеянное чёрное платье и открыла ставни. Я была совсем одна в огромном доме; лишь внизу гомонили птицы, которые перед грозой ретировались в холл… Съёжившись в оконной нише, я перебирала жемчужины на моей шее. Перед моим мысленным взором я ужасающе отчётливо увидела полуприкрытые бабушкины глаза и услышала её слабый голос: «Илзе, надень бусы на эту тонкую смуглую шейку!», а затем: «Они тебе к лицу, дитя моё! У тебя глаза твоей матери, но якобсоновские черты»… Имя, которое я якобы не знала, было написано на моём лице… Такого лживого, неверного создания, как я, нет, наверное, на всём белом свете! На какую дорожку я ступила? Как часто за эти несколько недель я позволяла другим подвигать себя на неправедные, бездумные действия! Но теперь — я пылко прижала жемчужины к губам — теперь я хотела исправиться и не хотела больше действовать вслепую, не задаваясь вопросом: «Кому ты причинишь этим боль?»