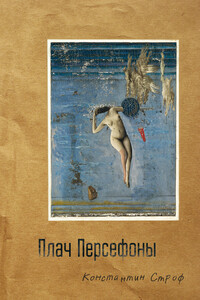День клонился к вечеру, и на улицах быстро темнело. Город был почти не освещен; не было ни яркой рекламы, ни уличных фонарей; в темноте виднелись только бледно светившиеся витрины ресторанов. Открыв тяжелую дубовую дверь, я вошел в один из них и сел за низкий и массивный деревянный стол. В ожидании того момента, когда мною займутся, я разглядывал стены, сплошь увешанные старинным серебряным оружием, коврами и гравюрами. Неповторимый стиль Темных веков был выдержан здесь необычайно тонко и приятно; когда же я попробовал заказанное мной белое пиво, оказавшееся душистым, сладким и плотным, как кисель, я почувствовал себя совсем хорошо, как ни разу еще в Германии. Немцы никогда не дорожили своим средневековьем, лихорадочной экспрессией готических языков пламени, обвивающих их резные каменные церкви, беспокойными, звенящими от напряжения линиями, мрачными красками, скрюченными, извивающимися, вздымающимися к небу пальцами распятого Христа. Долгие века их искусство, как завороженное, заглядывалось на одну Италию, на далекий юг, на сладостное Средиземное море. Собственные, местные традиции с презрением отвергались ими; если б можно было, они и вовсе бы от них отказались, заменив всю свою жалкую, безнадежно устаревшую живопись на ясное, уверенное и уравновешенное итальянское искусство.
До какого-то времени и я разделял эти взгляды, пока не увлекся тем самым жутким и уродливым готическим началом, которое с таким тщанием старались вытравить из своего искусства старые немецкие мастера. Прозрачная ясность итальянской живописи начала казаться мне пресной, водянистой; ей не хватало чего-то жгучего, острого, кошмарного и безобразного, что в избытке было на Севере. В своих поздних проявлениях, у Рафаэля, Ренессанс становился совсем уже слащавым и вымученным; чересчур продуманные и взвешенные образы этого художника производили странное впечатление, как будто он, добившись безграничной свободы в обращении с живописным материалом, употребил все свое мастерство на бессмысленное перетасовывание разноцветных кубиков.
Но здесь, целиком погрузившись в окружавший меня сумрачный средневековый колорит, я вдруг почувствовал, что тот прекрасный цветок, который произрос из него в Италии полтысячи лет тому назад, все еще сохраняет для меня свою привлекательность. Для того, чтобы по-гурмански просмаковать европейскую культуру, ощутить прелесть всех ее эпох и поворотов, очень важно было правильно избрать последовательность смены блюд на этом пиру. Насытившись северной готикой, ее угрюмыми и тусклыми красками, я снова потянулся к той мягкой и нежной образности, которую породила плодоносная итальянская почва, когда там, на юге, впервые в Европе, закончилась зима средневековья.
Заказав второй бокал пива, я вынул из своего походного рюкзака книгу об Италии, написанную старым и почти забытым русским писателем, и стал неторопливо листать ее. Можно было попробовать, не задерживаясь в Мюнхене, перевалить через Альпы и оказаться в этой благословенной земле, посетив хотя бы несколько ее старинных городов - Милан, Флоренцию, Венецию. Моя виза годилась для всей Западной Европы, но я не знал, вошла ли уже Италия в государственное соглашение, позволявшее путешествовать по континенту, практически не замечая границ, отделяющих в нем одну страну от другой.
Книга, лежавшая передо мной на столе, быстро отвлекла меня от этих размышлений. Целыми рядами передо мной проходили давно исчезнувшие люди, населявшие эту страну - художники, мыслители, поэты. Я прочитал в ней о Ницше, который, обосновавшись в северной Италии, сказал о себе, что "в Петербурге он стал бы нигилистом", а тут он верует, "как верует растение: верует в солнце". Здесь, погружаясь во тьму безумия, надвигавшегося как черная грозовая туча, философ исступленно набрасывает свои последние произведения; и вот его уже, поющего баркаролу, с окончательно помутившимся сознанием, в сопровождении санитаров отправляют на родину, в Германию. Я узнал о великой и несчастной любви семнадцатилетнего Стендаля, в ту пору миланского поручика; увлекшись Анжелой Пьетрагруа, "une catin sublime а l'italienne", он так и не решился поведать ей о своих чувствах, и только в следующий свой визит в Милан, одиннадцатью годами позже, признался в своей страсти. Добившись наконец своего, он неожиданно столкнулся с новыми препятствиями: опасаясь огласки, Анжела держит своего возлюбленного на расстоянии, отправив его в Турин и не разрешая появляться у себя чаще чем раз в месяц. Прячась в гостиницах и принимая величайшие меры предосторожности, молодой Стендаль лишь изредка прокрадывается к своей удивительно осмотрительной возлюбленной; вскоре, однако, выясняется, что его отлучки нужны были ей лишь для того, чтобы свободно приглашать к себе любовников. Узнав о том, что она "сменила их столько, сколько дней провела без него", Стендаль поначалу не верит своим ушам; но служанка синьоры Анжелы, пожалев простодушного литератора, прячет его так, что через замочную скважину он видит сцену, не оставляющую в нем на этот счет никаких иллюзий. Далее следует гневное разоблачение коварной итальянки, после чего Анжела разыгрывает необыкновенно трогательную сцену раскаяния и целый коридор волочится за писателем по полу. Стендаль, однако, находит в себе силы устоять перед соблазном, о чем, правда, не раз жалеет впоследствии.