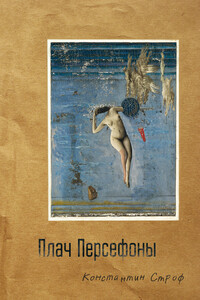Июнь 2001
МЮНХЕН
Историческая ночь, сгустившаяся над народами Европы, погрузила в мягкий, умиротворяющий полумрак и те резкие черты, броские особенности, которые еще недавно так заметно отделяли их друг от друга. В России, изнывая от страстного желания приникнуть к этому источнику, я любил ласкать прихотливой мыслью разные грани этого недоступного блестящего мира: геометрическую сухость древнего Египта, напоенную светом греческую пластику, мужественную твердость римского гения, женственную мозаичность Византии, готические ребра Франции, темное цветение Италии. Но еще больше мне нравилось смешивать эти краски, находя в дубовом дупле величественной римской государственности медовые соты греческой культуры, или отыскивая в суровом колорите фламандских художников, английских музыкантов нежные нотки средиземноморской мягкости и живописности. Еще большее наслаждение доставляли мне далекие, неявные сближения такого рода. Всякий раз, когда неверная, изменчивая петербургская весна сменялась внезапным похолоданием, засыпая тяжелым, рыхлым снегом цветы и травы, смешивая прогретый воздух с ледниковым дыханием земли, то, гуляя по берегу Финского залива среди дубов и сосен, я чувствовал себя в Японии, в которой никогда не был. Что-то неудержимо восточное сквозило в желтых камышах на взморье, покрытых тонким ледком, в сочетании глубокой небесной синевы со снежной линией горизонта. Но, окажись я в Японии, я бы искал там Петербург. Тихоокеанское побережье напомнило бы мне мелкую и холодную Балтику, крыши буддийских пагод показались подражанием изящным золоченым завиткам Петропавловского собора, а императорские парки слились в сознании с петербургскими пригородами, с их китайскими дворцами, деревнями и храмами.
Даже в пределах одного города я находил возможности такого рода. Сколько раз в Петербурге, проходя от Островов к Неве, я замирал от восторга, увидев вдали, на другом берегу, в туманной перспективе, замок с высоким шпилем, стоявший грозно и величественно. Мое взбудораженное воображение мгновенно расцвечивало его темные и жесткие очертания, добавляя к этому пустому контуру целые страны и эпохи, с живыми человеческими судьбами, громовыми историческими событиями и пронзительными произведениями искусства. Но в другой раз, проходя у самого этого замка, я почти и не смотрел на него, устремившись жадным взглядом опять куда-то вдаль, мимо обширной площади, вдоль моста через свинцовую тусклую реку, на другом берегу которой виднелся томивший мое сердце эмалевый купол мечети, окруженный острыми минаретами.
Приближаясь к Мюнхену, я думал об этом, с радостью замечая, как нарастают за окном приметы того, что окружавший меня угрюмый германский мир сменяется здесь миром итальянским и почти средиземноморским. Вначале эти изменения были почти неуловимы; они проявлялись в легчайшем повороте освещения, в зеленых лужайках, как-то по-особому ярко блестевших на солнце, в крутых склонах холмов, прорезавших ландшафт, в театральных облаках на синем фоне, мягко отражавшихся во всех стеклянных поверхностях нашего поезда. Баварские деревни, в беспорядке разбросанные между холмов, становились все красочнее и живописнее; прозрачный воздух, омывавший их, как будто лакировал их черепичные крыши, смягчая острые углы и линии. Так же, как по пространству, я тосковал и по времени, в котором никогда не был. Мне хотелось попасть в этот мир, спокойный и патриархальный, мир средневекового селения, заброшенного в альпийской долине. Тогда не надо было долго странствовать, чтобы соприкоснуться с неизведанным: оно начиналось сразу за оградой хутора, за цветущим лугом, через который к далеким снежным вершинам вела извилистая полевая дорога.
Когда за окном потянулись скучные мюнхенские пригороды, представлявшие собой сплошное нагромождение конструктивистских достижений цивилизации, я несколько отвлекся от своих видений, задумавшись о том, как встретит меня последний город Германии на моем пути. Но, попав туда и отойдя немного от вокзала, я сразу позабыл о хлопотах и залюбовался новой для меня архитектурой, явно испытывавшей сильное итальянское влияние. Италия, Италия была здесь повсюду. Немцы казались мне самым счастливым народом в Европе из своей сумрачной, готической комнаты с низкими потолками они могли глядеть, не отрываясь, на тот кипучий и красочный праздник, что вечно бродил и пенился за неровной грядой Альпийских гор. Я завидовал им больше, чем самим итальянцам, которые, наверное, давно уже пресытились своим маскарадом, но не могли от него отказаться, истощая свои силы в безумной калейдоскопической игре, в нескончаемом смешении красок и звуков.