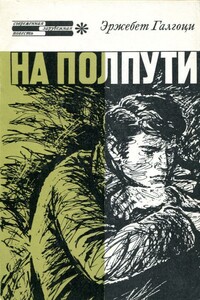Прокурор был явно недоволен. Он испытывал разочарование и досаду.
— Я не совсем понял, — с нетерпением перебил он, — какое отношение имеет к делу то обстоятельство, что вы в семье были единственным ребенком?
Парень удивленно посмотрел на него.
— Так ведь, будь у меня братья, я мог бы оставить хозяйство и уйти куда пожелаю.
— Ага, понимаю. Скажите, а ваша мать, она часто вспоминала своего мужа?
— В первые годы после войны — да, часто, а потом перестала.
— Она не говорила, что он, возможно, в плену и в один прекрасный день возвратится домой?
Парень пожал плечами.
— Ведь ясно было, что отец погиб.
Возвращаясь из больницы, прокурор думал: люди двух поколений живут вместе, под одной крышей, в одной семье, живут десять лет, двадцать, двадцать шесть. И ничего не знают друг о друге!
— Почему вы это сделали? — спросил прокурор обвиняемую во время судебного заседания.
— Потому что я подумала… — ответила женщина, она держалась по-прежнему прямо, и только голос ее выдавал, — был бы жив мой муж — сын никогда бы не осмелился пойти на такое.
— Значит, именно в тот момент вы осознали, что ваш муж погиб?
— Да.
Крестьянку оправдали. В обосновании упоминался научный термин «идефикс». Среди сидевших в зале суда крестьян никто не знал этого слова, но суть его поняли все: Тёрёк не преступница, а больная, ведь иначе как душевнобольной не назовешь женщину, которая целых пятнадцать лет после войны все еще ждет своего пропавшего мужа, все еще отказывается верить, что муж погиб, как и тысячи других. То, как прокурор сравнил этот случай с минным полем, понравилось всем, поскольку присутствовавшие в зале суда мужчины все — за исключением сына обвиняемой — прошли фронты первой или второй мировой войны, и женщины тоже, каждая по-своему, хлебнули горя в эту войну; у очень многих, как у Тёрёк, не вернулись домой те, без кого они не представляли своей жизни. Односельчане поняли, что не преступление это, а как бы несчастный случай: взорвалась мина. После войны много мин взрывалось в местах, казалось бы, совершенно безопасных, например, как у подножия черешневого дерева… где подорвался мальчонка Билаца… Ну и, в конце концов, ведь Яни остался в живых, не то что сынишка Билаца… А ведь тогда никого не привлекали к ответственности. Да и кого было привлекать? Разве что саму войну?
Все радовались, что женщину оправдали, не чувствовал радости лишь один человек: ее сын… Конечно, он любит мать и жалеет ее, но он и боится ее, и испытывает к ней отвращение. С этим ничего не поделаешь!
Судьи покинули зал, охранники тоже ушли.
Односельчане окружили женщину.
Может, и ему надо подойти к ней?
А ноги будто приросли к полу! Он думал: где же ему ночевать сегодня, завтра и потом? Сын понял, что с этой женщиной, которая когда-то была его матерью, он больше не сможет жить под одной крышей.
Мать подошла к нему сама.
— Есть у тебя при себе деньги?
Сын полез в карман, он так и не мог заставить себя посмотреть в глаза матери.
— Конечно, — прошептал он.
— Сколько?
— Пять тысяч форинтов.
— Отдай мне. Нужно расплатиться с адвокатом.
Сын протянул матери толстую пачку денег и взглянул ей в лицо.
— Я и сам мог бы с ним расплатиться.
— Ты поезжай домой пятичасовым поездом. Скотина не кормлена.
Парень не осмелился сказать, что у них в хлеву больше нет никакой скотины: всю, что была, давно забрали в кооператив. Да и кто бы стал за ней присматривать, пока он находился в больнице, а мать… Вот собаку, ту, правда, жаль. Хорошая такая собачонка, пули…
— А я поеду следующим поездом, — сказала женщина.
— Ладно, — прошептал сын.
Мать посмотрела ему в лицо.
— Ты не простыл?
— Почему вы так думаете?
— Хрипишь что-то.
— Э-э, пустяки, — махнул рукой парень. Он почувствовал облегчение уже от того, что им не придется вместе возвращаться домой. Значит, в запасе есть еще какое-то время, и он обдумает, как ему жить дальше… А и правда, как ему жить? Боже праведный, как же ему относиться к этой женщине, ведь он теперь даже не знает, кто она: мать или не мать?
Машинист паровоза слишком поздно заметил бредущую по путям старуху: стоял ноябрь, и вечерами туман рано ложился на землю. А видела ли сама женщина надвигающуюся на нее смерть, этого нам уже и не узнать никогда, друзья мои.