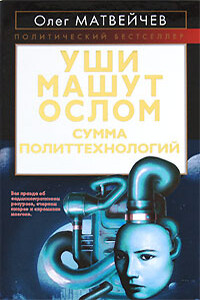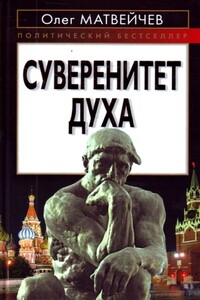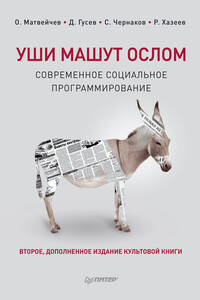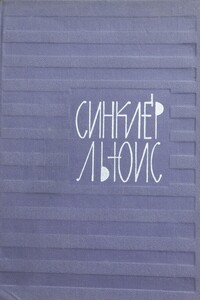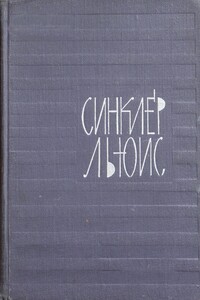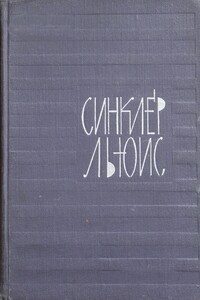Дилетанту – все можно, он знает все, и свои бестолковые идеи он пытается донести до всего мира.
И тут уж как повезет. Либо его даже слушать не будут, и все останутся при своих. Либо, если авторитет дилетанта велик, а имя громко, будут менять мир в соответствии с его рекомендациями.
И тут уж недалеко и до беды…
Мы помним, как в лагерях Солженицын, ища работы полегче, выдавал себя то за опытного нормировщика, то за ядерного физика, то за переводчика с немецкого – не зная толком, как правильно сказать «гутен абенд». Но мечтой его было выдать себя за медика: «Не раз мечтал я объявить себя фельдшером. Сколько литераторов, сколько филологов спаслось на Архипелаге этой стезей! Но каждый раз я не решался – не из-за внешнего даже экзамена (зная медицину в пределах грамотного человека да еще по верхам латынь, как-нибудь бы я раскинул чернуху), а страшно было представить, как уколы делать, не умея. Если б оставались в медицине только порошки, микстуры, компрессы да банки,– я бы решился»472.
Но если нормировке дипломированный математик еще мог худо-бедно обучиться по ходу работы, а незнание азов ядерной физики обнаружилось бы раньше, чем он успел бы что-нибудь испортить, то ценой вранья по медицинской части могли бы стать чьи-нибудь жизни. Но есть ли дело Солженицыну до чьих-то жизней, если речь идет о его комфортной отсидке?
Ценой дилетантизма в политике и экономике (а именно в этих областях Солженицын считал себя докой) могут стать уже не одна или две жизни, но сотни, тысячи, миллионы. Мы видели, чего стоила России необдуманная политика резкого насаждения рынка в начале девяностых. Мы видим сейчас, как страдает Украина из-за ослепленной ненавистью к России политической верхушки, стремящейся «назло маме отморозить уши» и тем поставить свою страну на грань гибели.
Но это еще цветочки. Страшно представить, что могло бы произойти с миром, прислушайся к советам Солженицына вожди двух сверхдержав!
Возможно, вам уже не довелось бы читать этой книги – равно как и всех других…
Шло время. В ненавистной Солженицыну стране назревали перемены. В марте 1985 года генеральным секретарем ЦК КПСС был избран 54-летний Михаил Горбачев, представлявший относительно молодое поколение партийных руководителей, осознававших необходимость обновлений в СССР и вывода страны из экономического и социального кризиса. Ясной программы первоочередных действий у них не было, но они были убеждены, что Советскому Союзу необходимо отказаться от конфронтации с Западом, выйти из международной изоляции и сосредоточиться на решении задач экономической модернизации.
Борясь за власть со сторонниками «старого курса» в Политбюро, Горбачев все больше опирался на поддержку антигосударственных сил, целью которых было достижение состояния «управляемого хаоса» в стране и разрушение государства. Именно с их подачи в самом начале 1987 года была провозглашена политика т.н. «гласности». Целью ее было разрушить идеологические основы существующего строя путем сначала критики недостатков социализма с целью его очищения, а потом и вовсе – полного отказа от социализма в пользу капитализма. Главный идеолог этого проекта, «архитектор перестройки» секретарь ЦК КПСС Александр Яковлев дал добро на то, чтобы в СМИ стали появляться материалы о преступлениях сталинского режима и необходимости возвращения к «ленинским нормам» партийной и государственной жизни.
Именно тогда в стране вспомнили и о главном борце с кровавым режимом – Александре Солженицыне.
В конце июня 1989 года состоялось заседание Политбюро, на котором было принято решение о реабилитации Солженицына, сразу после чего вышло постановление об отмене решения об исключении автора «Архипелага» из Союза писателей. В том же году журнал «Новый мир» опубликовал «Нобелевскую лекцию» и главы из «Гулага». А в 1990 году произошел самый настоящий обвал публикаций. В стране выходят все основные произведения Солженицына: «В круге первом», «Раковый корпус», «Август Четырнадцатого», «Октябрь Шестнадцатого», первый том «Марта Семнадцатого», «Бодался теленок с дубом».