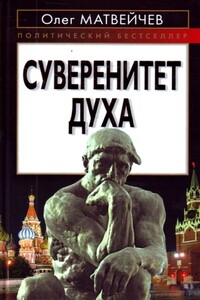Ватник Солженицына - страница 79
Тогда же появились первые сомнения в душевном здоровье Пророка. По информации газеты «Нью-Йорк Таймс», именно неуверенность в «умственной стабильности» Солженицына стала причиной, по которой советники американского президента Джеральда Форда рекомендовали отказаться от назначения писателю аудиенции465.
Свои советы Солженицын раздавал и устно, и письменно – если ему не предоставляли вовремя высокую трибуну, он писал пресс-релизы. 21 июля 1975 года отправил, например, в «Нью-Йорк Таймс» заявление, в котором выражал неудовлетворение действиями президента Форда, который собрался в Европу, чтобы подписать там Хельсинские соглашения – «предательство Восточной Европы: официально признать ее рабство навсегда». («Ты поучи свою жену щи варить», – подумали, наверное, тогда в Белом доме).
Со временем советы Солженицына приобретали все более универсальный характер – Пророк не желал более ограничиваться борьбой с одним лишь советским режимом, он решил, что пора выписать рецепты и всему остальному миру.
В марте 1976 года писатель посетил Испанию. В нашумевшем выступлении по испанскому телевидению он одобрительно высказался о недавнем режиме Франко (и это диктатура? не видели вы диктатур!) и предостерег Испанию от слишком быстрого продвижения к демократии (мол, так не долго и в социализм вляпаться, а в социализме – Гулаг, убивший 110 миллионов человек и запрещающий пользоваться ксероксами)466.
8 июня 1978 года Солженицын выступил в Гарварде на ассамблее выпускников университета. В своей речи он почти в духе советских передовиц рассказал о том, что стоит за внешним благополучием Запада. А именно: 1) подмена Правды правом («общество, в котором нет других весов, кроме юридических, тоже мало достойно человека»467); 2) разрушительный, безответственный либерализм, породивший порнографию и преступность («защита прав личности доведена до той крайности, что уже становится беззащитным само общество от иных личностей»468); 3) тоталитаризм прессы («безудержная свобода существует для самой прессы, но не для читателей»469). Бездуховность и малодушие стали причинами того, что Запад все явственнее теряет позиции перед ужасным Восточным блоком: «для обороны нужна и готовность умереть, а ее мало в обществе, воспитанном на культе земного благополучия»470. Чтобы Запад смог устоять перед Востоком, Солженицын советует ему вернуть общественное мужество, продемонстрировать СССР свою решимость начать войну и обратиться к Богу.
Нападки Солженицына на либеральные ценности были приняты в Америке холодно: получается, американцы сами сначала не поняли, кого пригрели – бородатого черносотенца. Главу госдепартамента США Генри Киссинджера как-то спросили: не кажется ли ему, что Солженицын правее Барри Голдуотера471? «Да он правее самих царей!» – ответил Киссинджер.
В общем, нисколько не удивительно, что в университеты и на телевидение Солженицына стали приглашать все реже и реже, а формулировки в его адрес становились все хлестче и хлестче. Вот как, например, в 1980 году аттестовал его американский литератор Гор Видал: «Плохой писатель и к тому же дурак. Комбинация, которая обычно гарантирует вам в Соединенных Штатах популярность».
Солженицын заперся в своем вермонтском поместье размером со среднюю русскую деревню (обосновался он в нем в июле 1976-го) и засел за бесконечное «Красное колесо», отвлекаясь лишь на то, чтобы накатать очередное «заявление» для прессы, науськиваемый новой женой Натальей Дмитриевной («Сейчас он им врежет!..»)
Но и его «реплики по поводу», и немногочисленные интервью оставались без внимания – Солженицын стал посторонним и для граждан СССР, и для эмигрантов, и для западной общественности, и для американских властей. И ему уже впрямую давали понять, что в его советах не нуждаются: спасибо, Александр Исаевич! Поучайте лучше ваших паучат!
Именно железобетонная уверенность в собственной правоте отличает дилетанта от профессионала. Профессионал осознает границы своей компетентности, он знает, что можно знать и больше. Профессионал – тот, кто твердо знает, чего ему делать нельзя.